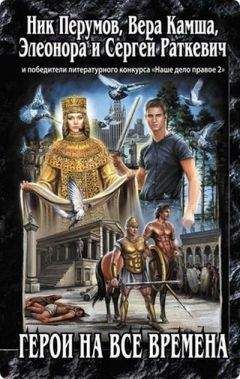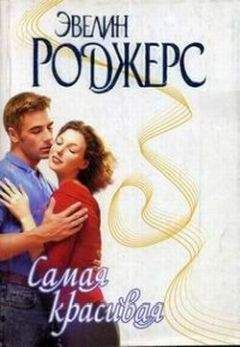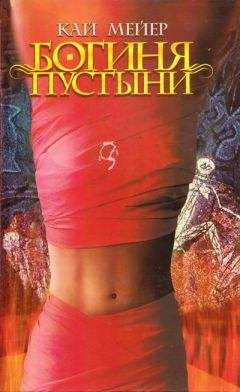Луи Мари Энн Куперус - Ксеркс
— Какой небольшой комок! И непрочный. Я мог бы бросить его на пол и растоптать в пыль. И всё же, всё же… И Элизий и Тартар заключает для меня в себе эта глина.
Пальцами он отломил от края кусочек.
— Ещё кусочек, и отпечаток погибнет. Я не смогу воспользоваться им. Уж лучше уничтожить его. И всё же… всё же…
Наконец, опустив глину на стол, Демарат принялся разглядывать её.
— О, отец Зевс! — нарушил он молчание. — Если бы только я не боялся! Сикинн проницательный человек, а Фемистокла не умилостивить. Я умру жуткой смертью, а всякий человек справедливо стремится избежать её.
Демарат поглядел на лампу, словно бы ожидая от неё вразумительного ответа.
— Увы, я совсем одинок. Никто не может посоветовать мне, как надо поступить в этом совершенно необычном случае. Или всё-таки обратиться к Главкону?.. Кимону или Фемистоклу… Какой дали бы они совет? — С губ его сорвался горький смешок. — Я должен спасать свою шкуру, но не такой же ценой… — Оратор прикрыл глаза руками. — Будь он проклят, тот час, когда я повстречался с Ликоном. Пусть будет проклят «киприот» с его золотом. Лучше было бы всё рассказать Главкону. Он спас бы меня, хотя и возненавидел бы потом. Но я уже продался персам. И поступка этого не изгладить.
С этими словами он поднялся, поднял драгоценный черепок, поместил его в шкатулку и трясущейся рукой запер замок.
— Я не могу этого сделать. Я вёл себя глупо, жестоко, однако нельзя же позволить себе обезуметь от страха. «Киприот» завтра покинет Афины. Я смогу сбить со следа Сикинна. Я выпутаюсь из этой истории.
Демарат направился к шкафу со шкатулкой в руках, но остановился на половине пути.
— Какая же это ужасная смерть! — Мысли его направились по новому руслу. — Цикута! Люди просто холодеют — член за членом, — сохраняя разум до самого конца. А потом будут вороны в Баратруме и бесчестье, запятнавшее имя отца! Когда это отпрыск дома Кодра становился предателем Афин? Разве это плохо — спасти собственную жизнь?
И, так и не дойдя до шкафа, он повернул к окну. Солнце светило жарко, но, выглядывая на улицу, Демарат ёжился, как в зимнюю бурю. Несчастными глазами он рассматривал проходившую мимо окон толпу: погонщиков с ослами, нагруженными корзинами, продавцов горячих колбасок с полными углей жаровнями и подносами, юношей, отправляющихся в гимнасий или возвращающихся из него, рабов, идущих домой с купленным на рынке товаром. Сколько простоял он таким образом, жалкий, беспомощный, Демарат так и не понял. Наконец попытался приободриться:
— Нельзя же простоять вот так целую жизнь! Знаменье, о боги, пошлите мне знаменье! Что же мне делать? — И Демарат возвёл очи горе в тщетной надежде увидеть на небе знак удачи в виде ворона или орла, приближающегося с востока, но узрел лишь сам ясный небосвод. Тут взгляд оратора обратился к улице, и жаркая кровь вдруг окатила его от затылка до пяток.
Она… Гермиона, дочь Гермиппа. Следом за женой Главкона шли две пригожих служанки с её зонтиком и табуретом, обе они казались пионами возле розы. Гермиона откинула с лица синюю вуаль. Солнце искрилось, запутавшись в её волосах. При каждом движении тонкий шафрановый муслин из Аморгоса обрисовывал её фигурку, как бы окутанную светящимся облаком. Гермиона высоко держала голову, словно гордясь собственной красой и изяществом и славным именем мужа. Она не оглядывалась и потому не могла заметить вспыхнувших глаз Демарата при взгляде на неё. Он видел её высокий и чистый лоб и за всем уличным шумом слышал — или это ему показалось — шелест её муслиновых одежд. Гермиона прошла мимо, даже не зная, что, избрав подобный путь из дома подруги, определила этим ход жизни троих смертных: самой себя, мужа и Демарата.
Оратор провожал Гермиону взглядом до тех пор, пока она не исчезла за фонтаном, на углу улицы, а потом отпрыгнул от окна. В подобные мгновения люди или соприкасаются с божеством, или опускаются к демонам, совершая непоправимые деяния.
— Вот он, знак! Вот он! И не Зевс послал его, а Гермес Хитроумный. Он поможет мне. Но если она не будет принадлежать Главкону, значит, достанется мне. Я сделаю всё до самого конца. Бог поддержит меня.
Швырнув шкатулку на стол, он вновь разложил перед собой её содержимое. Рука Демарата с удивительной скоростью запорхала над листком папируса. Оратор полностью, в высшей степени овладел собой и успокоился.
От приятного безделья Биаса оторвал звонкий шлепок ладоней.
— Чего ты хочешь, кирие?
— Сходи к Эгису. К тому, кто содержит игорный дом в Керамике. Ты знаешь где. Скажи ему, чтобы немедленно явился ко мне. Я за наградой не постою. И смотри, чтобы ты не шёл, а летел по улице. Надеюсь, это заставит тебя поспешить.
Он бросил мальчишке монету. У Биаса даже рот раскрылся от изумления: в руках его оказалось не серебро, а золотой дарик.
— И не смотри на меня как баран, а беги. Веди сюда Эгиса, — закончил хозяин.
Словом, ногам Биаса никогда ещё не приходилось так торопиться, как в тот день.
Явился Эгис. Демарат давно обнаружил истинную стоимость этого человека. Они беседовали до темноты, однако держались настолько осторожно, что старательно прислушивавшийся Биас не мог ничего разобрать. А потом Эгис ушёл с двумя письмами. Одно из них он спрятал, словно самоцветы из венца Царя Царей, если бы те вдруг свалились на его голову, второе же отправил с благоразумным клевретом в комнаты, занимаемые «киприотом» в Алопеке. Содержание послания соответствовало ситуации: «Демарат незнакомцу, называющему себя князем кипрским. Радуйся. Знай, что Фемистоклу известно с твоём пребывании в Афинах и подозрения его направлены именно на тот дом, где ты обитаешь. Завтра же уезжай из Афин или погибнешь. Всеобщая сумятица в день праздника поможет тебе скрыться. Человек, которому я доверяю это письмо, поможет Хираму найти для тебя подходящий корабль. Да не скрестятся вновь наши пути! Хайре».
Когда Эгис ушёл, прежний страх вернулся к Демарату. Он приказал Биасу зажечь все лампы. Ему казалось, что комната уже наполнилась призраками — гарпиями, Горгонами, общество которых разделяли Гидра и Минотавр. И, что самое страшное, песня Эриний, которую Демарат слышал из уст Эсхила на Истме, зазвучала в ушах несчастного оратора:
Вправе карать мы,
Вправе казнить,
Вправе обрезать нить.
Нами повержен будет любой,
Кто друга нарушил покой,
С улыбкой коварной и лучезарной,
С холодною головой
Отрыл яму другу,
Его взял подругу.
Спастись захочет — отыщем
И все преступления взыщем,
Быстр он, велик или мал,
С того, кто друга предал.
Демарат приблизился к бюсту Гермеса, находившемуся в уголке комнаты. На медном лиде, казалось, застыла злорадная улыбка.
— Гермес, — приступил к молитве оратор, — Гермес Делиос, бог искусников и лжецов, бог воров и помощник во злых делах, будь ныне со мной! Зевсу и чистой Афине я не смею молиться. Дай мне успех в деле, к которому я приложил свою руку… — Он помедлил и всё-таки не рискнул предложить проницательному богу слишком маленький дар: — Клянусь пожертвовать твоему храму в Танагре три высоких треножника, каждый из чистого золота. Не отлучайся от меня весь завтрашний день, и я не забуду твоей доброты.
Бронзовое лицо по-прежнему улыбалось, в комнате стояла мёртвая тишина. Тем не менее Демарату отчего-то сделалось легче. Гермес — великий бог, и он поможет ему. Когда песня Эриний сделалась слишком громкой, Демарат заставил старух умолкнуть, вызвав из своей памяти лицо Гермионы, задав себе вопрос и дав ответ на него:
— Сейчас она — жена Главкона, но, если перестанет быть ею, чьей тогда станет? Моей!
Глава 7
Цветы украшали головы, свисали с колонн, цветы были под ногами всякого, кто вступал на Агору. В тени портиков скрывались девицы, осыпавшие всех проходящих дождём фиалок, нарциссов и гиацинтов, ибо наступил последний, высший день Панафиней, самого радостного из всех афинских праздников.
Ему предшествовали соревнования атлетов и величественных пиррийских плясок мужей, облачённых в полные доспехи. Были и пиры, было и веселье — наперекор павшей на Афины тени Персидской державы. Город проснулся в тот день лишь для того, чтобы веселиться. Наступила пора шествия на Акрополь, поднесения священного одеяния богине и публичного жертвоприношения за весь народ. Даже память о Ксерксе не могла испортить праздник.
Солнце только что поднялось над Гиметтом. Лавки на Агоре не открывались, но и сама площадь, и окружавшие её многочисленные крохотные лавки кишели сплетниками. На каменной скамье перед одной из них болтало избранное общество, по необходимости собравшееся у Клеарха, только судья Полус время от времени начинал клевать носом и всхрапывать. Он просидел всю ночь на Акрополе, слушая бесконечные молитвы жрецов к Афине.