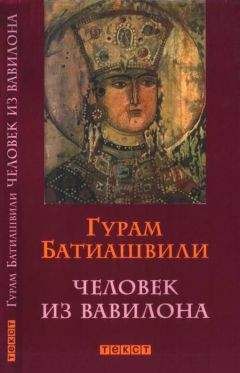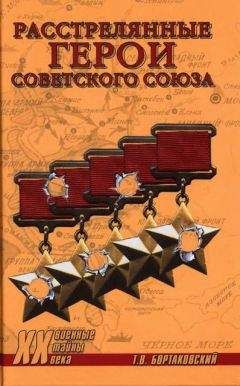Наталья Иртенина - Андрей Рублёв, инок
Он был введен в княжье семейство и жил во дворце. Пусть деревянном, но других в этой стране нет. Он учил детей второго по старшинству князя Московии, который в любой миг мог сделаться первым. Не всякий день, но иногда он трапезовал с князем и его супругой княгиней Анастасией. К нему прислушивались. Его ученость уважали. Его приглашали читать вслух – и он умел делать это изящно, живо, чувствительно! Эффектно, как говорят латиняне. Ему, наконец, платили живым серебром из княжьей казны. Пусть не золотом, этим металлом Русь вообще скудна, зато щедрой меркой.
Недаром мессир Джанфранко Галеаццо советовал ему искать подходы к звенигородскому правителю. Князь Юрий, в отличие от старшего брата, удался в отца, князя Димитрия. Мессир Галеаццо много рассказывал об этом Димитрии, прозванном Донским за победу над татарами у реки Дон. О том, как князь желал иметь в русских митрополитах не греческого чужака, а своего подручника. Желал и саму русскую Церковь подвести под свою руку, оторвав от Константинополя. О том, как княжьи слуги однажды побили, раздели и чуть не голым бросили на ночь в темницу митрополита Киприана, навязанного Руси империей. И как десять лет, до самой своей смерти не хотел с ним мириться князь.
Горячая кровь. И вся она, по-видимому, досталась второму сыну Димитрия. Недаром собственные младшие отпрыски звенигородского князя носили одно имя на двоих – в честь деда.
Истинным наследником отца, победителя Мамаевой орды, Юрий видит себя. Страстно желает сесть на московском столе. Во всех неудачах Москвы обличает Василия и ставит себя независимо от старшего князя. Верует, как все русские, едва не до дырки во лбу. Но с греком Фотием доныне не встречался – как и отец, грезит о русском митрополите. И уже не бросается в жаркий спор, когда Никифор будто случайно роняет слова, что истина выше разделения на латынскую веру и православную, что перегородки меж Церквами, от земли растущие, до неба не доходят. Что Константинополь сосет из Руси серебро и золото. Что Русь для того лишь и нужна империи. Что монахи, не имеющие полезных обязанностей, но стяжающие в монастырях столько богатства от князей и вельмож, живут жизнью трутней…
Нет, трогать монахов Юрий не позволял. Чернецы, как их тут называют, его взрастили, вложили в него все те суеверия, коими полны сами. Со временем и это исправится.
Но речам о том, что Московии нужен правитель мудрый и доблестный, который сумеет властно противостать Орде, муж разума и учености, способный расплодить в своей стране эллинские науки и искусства, а не тот, кому великий стол достается по случаю, по старшинству, по прихоти судьбы… Таким словам князь внимал охотно…
Стоя с книгой в руках, как в эллинском театре, посреди широкой и светлой палаты дворцового терема, Никифор читал князю и княгине. Голосом, лицом, а когда и жестом он изображал страстную любовь Каллимаха и Хрисоррои. Их историю философ знал почти наизусть и без труда переводил на язык русичей. Первая встреча героев полна необычайного напряжения. Каллимах находит девицу в несчастном положении: она подвешена за волосы под потолком залы. Жестокий дракон, хозяин замка, мучил ее, принуждая к возлежанию с ним. Девица совершенно обнажена, и юноша изумлен зрелищем. Эту сцену Никифор прочитывал всегда взволнованно, будто сам стоял на месте окаменевшего Каллимаха. «Смотрел лишь на нее одну, стоял и все смотрел он, как будто и она была на потолке картиной. Всю душу красотой своей могла она похитить: умолкнувший немел язык, и замирало сердце. Налюбоваться он не мог чудесной этой девой, на красоту ее смотря и женственную прелесть…»
Князь Юрий взглянул искоса на жену. Та, пораженная, тихо вздыхала и мяла в руках шелковый плат. Так же, украдкой, она бросила взор на мужа.
Чтец старается, накал чувств растет. Спящий дракон повержен. Девица спасена, снята с потолка и воспылала ответной любовью. «Исполненная страсти привстала девушка. Окрыленный любовью юноша предстал перед ней. Языку не под силу описать, с какой страстью, с каким волнением в сердце, с каким упоением бросились они в объятия друг другу». Перед изображением Эрота на стене влюбленные клянутся во взаимной верности…
– Эрот? – Голос Юрия громок, чтобы скрыть неприличное для мужа его лет волнение. – Это греческий святой?
– Нет, князь, это… – Никифор замялся, кинув взгляд на зардевшуюся княгиню, поникшую головой. – Так древние эллины представляли себе любовь. В виде крылатого мальчика с луком и стрелами. Его стрелы поражают людские сердца, вселяя в них любовь.
Князь поднялся, оправил полы домашнего кафтана. Задумчиво посмотрел на жену.
– Ступай-ка, княгиня, в свои покои.
– Но, князь…
Анастасия была без убруса, в одном лишь кружевном волоснике, который не мог скрыть запламеневших щек и ушей княгини.
– Ступай, Настасья, – строже велел Юрий.
Она покорно встала и, легко поклонясь, выплыла из палаты. Когда сенной холоп прикрыл дверь, князь уселся.
– Запрещаю тебе, Никифор, читать оную повесть княгине и боярским женкам, служащим ей. Даже если просить будет втайне от меня.
– Это жестоко с твоей стороны, князь, – пытался возразить философ. – Княгиня будет изнывать от любопытства, а неутоленное женское любопытство недобродетельно.
– Утолять бабье праздное любопытство еще того более недобродетельно. Ты меня услышал, Никифор. Чти далее.
Князь откинулся спиной на мягкие подушки кресла, приготовясь внимать греческому любодейству, которое философ называл возвышенным. Ибо что, как не сладостная горечь любовных мук, говорил он, сильнее возвышает человека над его животными страстями? Лишь страдания и злоключения на пути любви облагораживают это чувство, и только поэтому оно приличествует даже философам.
Однако чтению помешали. Хоромный боярин сообщил, что на посадских пристанях разгружаются купеческие лодьи, плававшие в Булгар и Казань. Привезли до полутора сотен выкупленных на татарском торгу владимирских полоняников. Боярин Дружина Глебов уже там, распоряжается, кого куда: ремесленных, испытав, на посад и княж Городок, прочих – сажать на землю по княжьим вотчинам. Чернецов, набравшихся с дюжину, в Саввин монастырь, а после – куда сами захотят. Монах, даже силой взятый и проданный, по христианскому закону свободен от холопства.
– Гонец сказывал еще, князь, будто среди тех чернецов один иконником назвался.
– Андрейкой Рублёвым?! – взбудоражился Юрий. – Что ж не сразу сказал, боярин!
– Будто Андрейкой, – с сомнением ответил тот. – А может, и не Андрейкой. Купцы бают, будто он не сразу на свое имя выкликнулся. А преж них по торгу ходили московские люди, тоже кричали Рублёва. У наших с теми свара вышла, князь. Подрались, говорят, за полоняников. Кой-кому и бороды проредили.
– За бороды и за службу отплачу купцам. – Юрий взволнованно шагал по палате, забыв о философе. Тот прикрыл книгу и, присел на лавку, скучая. Однако ни единого слова мимо не пропускал. – Пошли, Афанасий, человека с наказом. Иконника в монастыре отмыть, одеть, накормить досыта. Завтра буду там. Пускай ждет.
Боярин скрылся. Юрий, беспокойно разминая костяшки пальцев, опустился в кресло.
– Ну вот и познакомишься с первейшим иконником Руси, Никифор. Ты ведь хотел?
– Взгляну, пожалуй, князь, каков ваш прославленный монах. – Грек вовсе не обрадовался. – Но опасаюсь, что не обрящу в нем разумного собеседника. Монашеская ряса принижает ум, сковывает чувство, порабощает волю. Вкупе все сие делает монаха бездарным и неспособным к истинному познанию мира.
– Отцы мои духовные, старцы Сергий и Савва были прозорливы, – нахмурился Юрий, – знали то, что неведомо и недоступно прочим.
– Познать можно лишь то, что доступно разуму и чувствам! – воскликнул философ. – А иначе сие знание – иллюзия, как говорят латиняне. Обман, коему верят простодушные.
– Не дерзай очернять духоносных старцев! – рыкнул Юрий, разгорячась. – Ты расхваливал мне росписи во Владимире! Так в ком обман?
– Вероятно, мне что-то показалось там, князь, – ответил Никифор, смиренно понизив голос. А затем постарался отвлечь Юрия: – Как посмотрит твой брат Василий на то, что ты перевел в свою землю владимирских людей? Не есть ли это по вашим законам… нечто подобное краже? – осторожно выразился он.
– Не есть. – От удивления Юрий заговорил кратко. – Людей везде не хватает. Кто сумел, тот и взял. Испокон веку на Руси так.
– Однако казна у русских князей большая, – туманно высказался грек.
Князь понял по-своему.
– Отпишу тебе две малых деревни, а серебра больше, чем плачу, не дам.
Никифор приложил руки к груди и показал в поклоне редеющий затылок.
– О благодарю, князь. Щедрость есть добродетель благородного мужа. Но я говорю также и о другом. Десять лет назад русские князья отправили огромную сумму в дар Константинополю, страждущему от турок, кои теснят империю со всех сторон. Митрополит Фотий непременно озаботится отправкой новой суммы. Но эти пожертвования, поверь, князь, пропадают втуне и не идут империи на пользу. Они тотчас расходятся по рукам приближенных императора, вельможных чинов и князей Церкви.