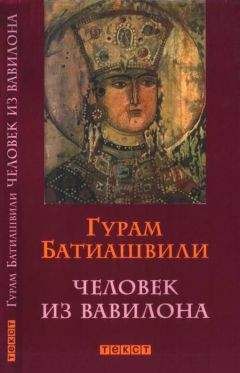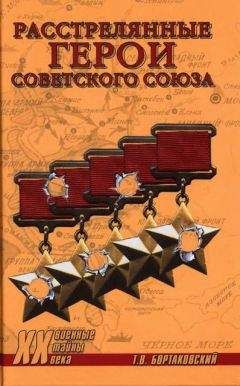Наталья Иртенина - Андрей Рублёв, инок
– Ты уже говоришь, как этот Халдикус, князь, – все более мрачнел боярин. – Не на добро это. Не знаю, как в греках, а на Руси князь приближает к себе разумных и дельных бояр. Будто мало тебе твоих бояр для думы и совета. Еще нужен приблудный греческий сморчок. Не я ли отговаривал тебя только что от неразумного дела? А для учености у тебя хватает чернецов-книжников.
Юрий рассмеялся.
– Семен, Семен! Уж не местничать ли вздумаешь с греком? Ему с тобой родом и знатностью не тягаться, думным боярином не быть. Не отберет он ни у кого места. Но при себе удержу его, – жестко заключил он.
Никифор и в самом деле умел проникнуть в душу князя. С самой первой встречи в звенигородском княжьем соборе, с первых же сказанных им слов. Грек, вдруг возникший перед Юрием, увлек его разговором о мастерстве зодчих, красе стенной росписи, мощи и продуманности градских укреплений, великолепии природы окрест, величии мироздания, божественной его сущности. О человеке – зрителе на празднике бытия. О радости познания, о счастье приближения к первоначалам, о наслаждении созерцанием. О достижении совершенства.
Дворские, имевшие намерение взять грека под руки, отвести к тыну и приложить лбом о бревна, ждали только знака Юрия. Но знака не было. Из храма разговор перетек во дворец, за обеденную трапезу, накрытую скромно, для двоих. Философ развернул пред князем картину мудрого правления. В государстве просвещенного науками и искусствами правителя подвластный ему народ не знает ни бед, ни болезней, ни голода и нищеты, ни войн, ни раздоров, ни ненависти. Беседа перешла на княжьих сыновей: им нужен хороший учитель, от которого они познали бы риторику, поэтику, логику, Аристотелеву этику, Птолемееву географию, Платонову и иную философию, Геродотову и Страбонову историю, начатки астрономии и геометрии. Но главное, он обучил бы их греческому наречию – языку мудрости и учености. Князь в ответ на это заметил: «Знать греческий нужно, чтобы читать церковные книги». Чем вызвал снисходительную улыбку грека, заставившую Юрия устыдиться своего невежества. К завершению трапезы философ из Мистры был утвержден наставником старших детей звенигородского князя – девятилетнего Василия и семилетнего Дмитрия.
Княжьи служильцы ждали седмицу, две, месяц – указания выставить грека вон все не поступало. Наконец плюнув, они перестали ждать. Свыклись с тем, что по хоромам и по двору шатается греческий блудослов – не пойми что такое: не монах, книжной пылью обсыпанный, не духовный отец, не игумен монастырский, вооруженный глаголами Божьими, не епископ, которого в Звенигороде уже давно нет. Отрочата же княжеские Никифора возненавидели за его ученье.
– Помяни мое слово, князь, не на добро к тебе этот грек прилип, – повторил Семен Морозов, когда скакали уже под самым градом.
…В подклете собора воздух был сух и чист, иконные доски нисколько не отсырели. Нашелся даже заготовленный щит нужного размера, скрепленный поперечными шпонками, с выдолбленным ковчегом и уже проклеенный. Но нужно было варить рыбий клей для паволоки и левкаса. С этим Андрей управился в несколько дней. Вынутую из котла с клеем холстяную редянку наложил на щит и долго приглаживал. Потом готовил левкас – измельченный и просеянный мел, растворенный в том же клее. Три дня левкасил: деревянным клепиком наносил тонкий слой, подсушивал, бережно притирал ладонью, сушил до конца и накладывал новый слой. Пока сохло, крошил и растирал в ступках краски – вохры, от светло-желтой до темно-багряной, красно-коричневую, светло-красную и светло-зеленую земли, древесную копченую чернь, осколок киновари, ярь-медянку. Жалостливую женку, что приносила ему скудную снедь, попросил достать свежих яиц и квасу. Поохав и излив множество горестных словес, наутро она приволокла полкорзины яиц и корчагу кваса.
Андрей наметил углем рисунок-графью и сел творить краски. Тщательно, подолгу растирал пальцем в деревянной ложке смесь желтка с квасом и красочный порошок. Сливал в плошку, тер новую порцию, снова сливал, пока не набиралось краски на три дня работы. Тогда брал другую ложку и творил другой цвет.
Наконец позвал успенского попа совершить молебен.
– Как писать будешь, – с недоверием спросил иерей, исполнив дело, – не имея образца?
– По памяти.
– Смотри. Божье дело творишь. А ну как отсебятину налепишь? Без образца только изрядные иконники писать могут.
– Благослови, отче, – смиренно сказал монах.
– Молись, Кузьма.
Ткнув ему в макушку благословляющими перстами, поп удалился.
Никто здесь не помнил Андрея в лицо или не узнавал. Может быть, рытье могил и зрелище бесконечных возов с мертвецами изменили его, сотворив из прежнего Андрея какого-то иного, нового. Он не знал, отчего так случилось. Но для всех выживших здесь и возрождающих град он решил стать Кузьмой. Жив ли, попал ли Рагоза в плен или лег в могилу, теперь не узнать. Однако с собой, в татарщину или в жизнь вечную, он унес обиду на Андрея.
Поэтому здешний люд будет помнить, что список чудотворной Владимирской Богоматери написал для них чернец Кузьма Рагоза. А иконник Андрейка Рублёв пусть побудет в татарском плену, искупая грехи свои.
Сам образ он писал быстро, едва задумываясь. Творил роскрышь иконы – раскрывал изначально скрытое изображение: заполнял красками поля графьи, каждое своим цветом. Перед внутренним взором стояла та самая чудная икона, привезенная некогда на Русь из Царьграда, исполненная тихой, напевной молитвенности. Он лишь кое-что изменил, чтобы этой молитвенности стало больше и сама Богоматерь сделалась бы воплощенной молитвой для людей, переживших весь тот страх и ужас, доныне эхом гуляющий по городу, затаившийся где-то высоко под сводами собора. Ужас тех, кто прятался на хорах – чья жизнь зависела лишь от того, вытерпит ли ключарь Патрикей, не облегчит ли себе муку смертную всего несколькими словами.
Он молился вместе с Пречистой. Ее руки в молитвенном жесте, обращенном к Сыну, стали его руками. До краев наполняло и переполняло пережитое осознание: совершенная любовь изгоняет страх.
Мир, лежащий во зле, дик, страшен и темен. Но в нем посеяны семена света. Лишь увидев тьму, можно узреть и свет, и пойти к нему. И сотворить жертву. Как десятки тысяч, павших на Куликове. Как сермяжный люд, возрождающий жизнь на пустой земле после каждого татарского набега. Как женки, волокущие воз горя по мужьям и сыновьям, поднимающие на ноги новые поколения мужей, сыновей…
В один из дней в собор нагрянул звенигородский князь с немногочисленной свитой. Иконник помнил его. Юрий когда-то пригласил радонежскую дружину подписывать построенный им в Звенигороде каменный храм. С той дружиной работал и Андрей, принявший в Троицкой обители постриг. Князю его художество приглянулось, уговаривал даже инока остаться в Звенигороде, в Саввином монастыре на горе Сторожи. Давно было, лет девять-десять назад. Теперь на лице князя пролегли упрямые складки, взгляд стал жестче – но все такой же прямой, открытый, нелукавый. И вряд ли он узнал бы сейчас того инока.
Андрей, ходивший к колодезю за водой, остановился с полным ведром поодаль от паперти. Догадался – князь приехал смотреть поновленное убранство собора. Когда спешенные служильцы освободили проход, он хотел продолжить путь, но вдруг увидел Алексея. Ведро едва не выпало из руки.
– Алешка!
Отрок не слышал. Он быстро шагал к младшим дружинникам, разговаривавшим поодаль от княжьей охраны. На нем болталась залатанная свитка с чужого плеча, а меча не было. Андрей, поставив ведро, двинулся к нему и услыхал, как Алешка спрашивает служильцев, не боярина ли Семена Федоровича Морозова они люди.
– Ну, Морозова, – лениво подтвердили те. – Тебе что, паря?
– А дочка его, – волновался отрок, – Алена, в девицах еще или замуж отдана?
– Тебе какое дело, голь, до боярских дочек?
Трое окружили его. Заломили руки, один кулаком врезал в поддых. Алешка согнулся, его бросили головой об стену собора и отошли.
– Гуляй отсюда, голодранец, чтоб мы тебя больше не видели.
Андрей видел, как полыхнул яростью отрок. Он заспешил к Алешке, но вдруг упал, поскользнувшись на гнилом огурце. Дворские захохотали.
Послушник наконец заметил его. На лице отрока в одно мгновенье прошла череда самых разных чувств. Последней была крепчайшая досада. Держась рукой за голову, Алешка поднялся с земли и криво побежал прочь. Андрей даже не стал его звать.
Стряхнул с подрясника грязь, вернулся к ведру и пошел в храм. Один из охраны хотел было остановить чернеца, но махнул рукой.
Не глядя по сторонам, монах ушел за столпы, под северные своды хоров, где был стол с лежащей на нем неоконченной иконой. Набрал воды в глиняный достакан, бросил отмокать кисть. Взял другую, вновь погрузился в работу. Голоса Юрия Дмитриевича и его спутников едва проникали в сознание.
– Посмотри, князь, сколь проникнуты эти фрески радостью жизни! – восклицал Никифор Халкидис. – Сколь в них истинного понимания мира и жизни, невзирая на загробную тему! Сколь гармонично связаны меж собой образы. Живописцу, творившему сие, ведома сладость постижения красоты…