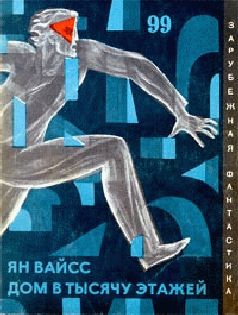Авраам Иегошуа - Путешествие на край тысячелетия
Но на это Бен-Атар отвечает решительным отказом. Ибо магрибский купец боится, что слух о том, какое множество товаров спрятано в широком трюме чужеземного корабля, достигнет местных таможенников и те немедля устроят им засаду выше по реке. Но в то же время Бен-Атару не хочется отпускать этих умилительных подростков совсем уж с пустыми руками, и поэтому он принимается расстилать перед ними образцы расшитых тканей, заодно проверяя, какое впечатление эти ткани производят на возможных местных покупателей, а затем, затратив на эти показы достаточное время, велит черному невольнику дать молодым гостям всегдашнюю щепотку соли, завернутую в кусок тонкой бумаги, и через рава Эльбаза спрашивает их, далеко ли еще до Руана и что представляет собой этот город. Судя по их жестам, расстояние не так уж велико. И тогда Абу-Лутфи, все это время стоявший с мрачной серьезностью в стороне, тоже вдруг приближается к молодой паре и просит рава Эльбаза спросить их, далеко ли отсюда до Парижа. Поначалу рав не решается расспрашивать таких юнцов о столь далеких местах, но в конце концов все-таки произносит название нужного им города, и — о чудо — лица обоих франков тотчас вспыхивают восторженной улыбкой, и они начинают радостно, с очаровательной напевной интонацией, раз за разом твердить: Пари? Пари? — указывая при этом на юго-восток с таким набожным трепетом, словно там находится что-то вроде здешнего Иерусалима или Мекки. И видно, что, хоть они сами никогда не бывали в этом Пари, им не только известно примерное расстояние до него, но явно доставляет удовольствие внезапно представившаяся возможность вновь и вновь перекатывать на своих проворных языках картавое название этого далекого города, колдовские чары которого, видимо, простираются даже на тех, кому никогда не суждено в нем побывать. Обрадованные ответом, рав Эльбаз и Бен-Атар широко улыбаются подросткам, но Абу-Лутфи продолжает смотреть на них так недоверчиво и мрачно, словно вопреки множеству изнурительных дней и ночей, затраченных им ради путешествия в этот далекий Париж, он до сих пор еще питает надежду в конце концов убедиться, что такого города нет и вообще никогда не бывало.
Сказать по правде, Бен-Атар и сам поначалу не очень-то понимал, к чему клонит его племянник, когда с таким необычайным увлечением повторяет слово «Париж», еще ни разу там не побывав. Впервые Абулафия упомянул этот город уже во время их второй летней встречи на Еврейском холме в Испанской марке, ровно через год после того, как компаньоны вернули завороженную девочку под его опеку. В следующее лето, верные обещанию отвезти исмаилитскую няньку обратно в Танжер, магрибцы прибыли в Барселонский залив в первый день месяца ава и снова, как обычно укрыв привезенные товары в харчевне Бенвенисти и расплатившись с матросами грузом бревен, купили у хозяина трех лошадей и не спеша поднялись к древнему римскому подворью. К их удивлению, Абулафия прибыл на встречу один. Старая исмаилитская нянька согласилась остаться с девочкой еще на год, потому что оказалось, что все попытки молодого вдовца заменить ее какой-нибудь местной женщиной, из дочерей ли Завета или из необрезанных, немедленно вызывали горькие и страдальческие протесты несчастной заговоренной девочки, затемненному сознанию которой татуированное лицо старой няньки, видимо, представлялось чем-то похожим на преображенное смутной памятью лицо давно исчезнувшей матери.
Впрочем, поначалу Абулафии трудно было убедить няньку променять родной Танжер с его вечным шумом морского прибоя и запахом апельсиновых рощ, тонущих в прозрачном, с медным отливом, свете североафриканских берегов, на постоянное одинокое заточение в чужом и холодном христианском городе, да еще в компании искалеченного от рождения существа, бессмысленные причуды которого можно было обуздать лишь бесконечной жалостью и состраданием. И впрямь — стоило этой огромной исмаилитке, в ее белой, полученной от Абу-Лутфи накидке и в тонкой, голубоватого шелка чадре, едва скрывающей огромную серьгу в носу, выйти с порченой девочкой на прогулку по узким городским улочкам, окружающим могучую Тулузскую крепость, как все прохожие тотчас отворачивали глаза и начинали торопливо бормотать себе под нос подходящие евангельские наставления и молитвы, чтобы, невзирая на странный, противоестественный вид этой пары, сохранить заповеданную христианам кротость и терпимость. Вот и получилось, что Абулафии удалось уговорить старую исмаилитку остаться с девочкой на второй год лишь после того, как он повысил ей месячную плату почти до уровня дополнительного младшего компаньона — по одной малой золотой монете в канун каждой субботы и одной большой каждое полнолуние, пообещав, к тому же, что они с девочкой переселятся из-под крепости поближе к центру города, на еврейскую улицу, которую он выбрал, прежде всего, по той причине, что в Тулузе вообще не было особой улицы для исмаилитов, а, кроме того, еще и потому, что, по глубокому убеждению старой исмаилитки, только среди евреев, которые сызмальства якшаются с Асмодеем и сведущи в его дьявольских науках, можно ожидать понимания и сочувствия к причудам ребенка, на которого как раз Асмодей-то, кто же иной, и наслал некогда свою злобную порчу.
Однако в конце концов оказалось, что все эти усилия Абулафии окупились сполна, ибо обернулись не только его собственным душевным спокойствием, но и прямой выгодой для всех компаньонов. Ведь благодаря новому уговору с нянькой он получил возможность надолго отлучаться из дома, а такие отлучки были ему совершенно необходимы — и потому, что он, как и прежде, с трудом переносил мучительное присутствие своего ребенка, и еще более потому, что богатое воображение и беспокойная натура побуждали его искать всё новых и всё более взыскательных покупателей, которым пришлись бы по душе его изысканные и утонченные товары, легкие по весу, но увесистые по цене, — вроде тех маленьких кинжалов, инкрустированных драгоценными камнями, или же змеиных кож да сверкающих ожерелий из слоновьего зуба. Ибо душа Абулафии уже устала от необходимости то и дело подталкивать телегу, тонущую в дорожной жиже под тяжестью огромных мешков с пряностями и кувшинов с маслом, по старинке доставляемых компаньоном Абу-Лутфи из африканской пустыни. Теперь же, умиротворив старую няньку и оставив ее на попечении тулузской еврейской общины, он мог забираться в поисках покупателей для новых товаров всё дальше и дальше в глубины франкских земель. Поначалу он решил было двигаться на восток, в сторону Бургундского королевства, по дороге, что вела из Родеза в Лион, а затем, около Вивье, выходила на торный купеческий путь вдоль долины Роны, но после первой же такой поездки понял, что на этом пути ему славы и денег не сыскать, потому что места здесь были самые что ни на есть бойкие, дорожная толчея самая густая, а расторопные византийские купцы, приходившие сюда из Италии через Тулон, широко предлагали тут на продажу драгоценности родом из глубин подлинного Востока — истинные азиатские сокровища, рядом со сверкающим блеском которых его африканские кинжалы и ожерелья тотчас казались тусклыми и померкшими. Поэтому в следующий раз он сменил маршрут и взял резко на северо-запад — сначала прямиком через глухое аквитанское захолустье, в сторону герцогства Гиень с его небольшими городками Ангулемом и Перигё, а оттуда, через Пуатье и Лимож, двинулся к Лузиньяну и Буржу, где ему показали путь в долину Луары и пометили, где проходит граница королевства Капетингов, в землях которых росли и поднимались новые города — Тур, Орлеан, Шартр, Париж, немедленно взволновавшие его пылкое торговое воображение влекущими новыми возможностями.
Когда компаньон Абу-Лутфи на каждой очередной летней встрече просил Абулафию нарисовать карту его новых странствий и показать на ней, хотя бы примерно, те места, где люди, по его мнению, могут жадно потянуться к другим, более легким и дорогим товарам, Абулафия всякий раз приходил в замешательство, и карта, которую он рисовал для исмаилита, каждый раз выглядела почему-то иначе. Но особенно затруднялся он решительно и твердо указать местоположение Парижа — маленькой речной гавани, которая почему-то весьма привлекала и возбуждала его, хотя сам он до сих пор ни разу там не бывал. Неудивительно, что эта его взволнованная сбивчивость разжигала в сердце исмаилита враждебное и настороженное отношение к загадочному франкскому городу и всему, что связано с ним. Ибо со свойственным арабу острым чутьем Абу-Лутфи тотчас уразумел, что чем дальше на север будет пробираться молодой еврей, тем глубже ему, мусульманину, придется забираться на юг, в пустыню, чтобы обеспечить северного компаньона этими порожденными его пылким воображением, хотя в принципе, конечно, существующими, более легкими и в то же время более дорогими товарами, которые покорили бы сердца его новых христианских покупателей. Да и сам Бен-Атар, который все время старался примирить обоих своих компаньонов, тоже не раз задумывался про себя, куда может завлечь их авантюрный дух Абулафии. Однако, в отличие от Абу-Лутфи, он не возражал против новых, направленных всё дальше на север, устремлений любимого племянника, хотя, как ни странно, отнюдь не из коммерческих соображений — ибо польза ото всей этой затеи представлялась ему пока весьма и весьма сомнительной, — а в надежде, что там, далеко на севере, Абулафии будет легче освободиться от тех странных и ребяческих фантазий, которые неотступно обуревали его с того дня, как он покинул Танжер, — разбогатеть настолько, чтобы обрести силу и смелость вернуться на родину и воздать болью за боль всем тем, кто насмехался над его женой, а прежде всего — своей собственной матери. Ведь именно по этой причине, даже уйдя за Пиренеи и оказавшись в новом мире, Абулафия всегда предпочитал держаться подальше от тамошних евреев, опасаясь, что они станут соблазнять его новым супружеством, а это отвлечет его от мечты о возвращении и возмездии. И поэтому в первый год его отлучки Бен-Атар и впрямь всерьез страшился, что молодой вдовец вот-вот вернется домой, и притом гонимый не горем или тоской по оставленной в одиночестве девочке, а одним лишь жгучим желанием унизить и опозорить тех, кто вынудил его похоронить любимую жену за стенами кладбища как самоубийцу. И поэтому же теперь он задним числом хвалил себя за то, что безотлагательно последовал тогда совету мудрого Бен-Гиата и сам отправился в Барселону вернуть порченую девочку отцу, — ведь благодаря этому он не только открыл для себя всю сладость летних морских путешествий и важность встречи лицом к лицу с человеком, который распространял его товары, но и обрел вдобавок надежду, что воссоединение со своим увечным порождением заставит горестного родителя примириться наконец с реальностью и в итоге, быть может, смягчит и усыпит его бесплодную фантазию о возвращении на родину в роли ангела мести.