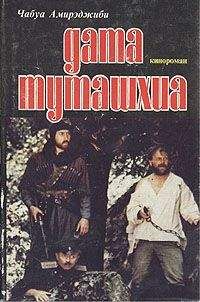Чабуа Амирэджиби - Дата Туташхиа
Мы с Датой молчим, понять ничего не можем.
— Вроде бы что-то… насчет завтрака и умывания, — говорю.
Бабка опять рапортовать, но Дата ее перебил, попросил обождать, пока оденемся.
— Что за бабка, Мосе, как ты думаешь? — спросил он меня, когда мы остались одни.
— Да, наверное, Сетура нам ее в прислуги прислал. Кем ей еще быть? Умом-то она… того… Это ясно. Непонятно только, зачем Сетуре этот номер понадобился?
— Вполне она в своем уме, — говорит Дата. — Я повадки умалишенных знаю. И поговорить с ними люблю — такое скажут, от умного не услышишь. Что-то здесь не то… Да… вот что. Ты вчера у Сетуры сильно набрался и, может, не помнишь, все Абелем его называл. Абель он или кто?
— Абель, конечно. Я пока в своем уме.
— А почему он поправлял тебя — Архипом, говорит, меня называй?
— Архипом?! — Я начал припоминать, что хозяин, и правда, все время поправлял меня, да мне было плевать. Что Абель, что Архип — один черт. Как хочет, так и звать его буду. Мне-то что.
Я оделся и подошел к окну поглядеть, что там стряслось, что мы — куры? подниматься чуть свет? Подходить близко к окну абрагу заказано, сами понимать должны. Я остановился не доходя, но так, чтобы двор просматривался. Ничего такого не увидел, все вроде бы утихло. Прошел какой-то малый и по-волчьи вполз в землянку. Снег кругом — я его и заметил, а так ничего не видно, темно. В комнате был балкон. Смотрю, на балконе наша бабка. Стоит, прижавшись к стене. Отчего это, думаю, она, как фельдфебель перед генералом, тянется перед нами?.. Вижу, прильнула к замочной скважине — ничего ей это не стоит, и так крючком согнута. Чувствую, зыркает по нашей комнате. Вдруг замельтешила — понимаю, меня, второго постояльца, из виду потеряла, как не замельтешить… Старая ведьма и то в толк взяла, не наблюдаю ли я за ней. Приподнялась, в окно заглянула, но ясное дело, ничего не увидела.
Я Дате молчком показал, он по стенке подкрался к двери — и настежь. Старуха, как была возле скважины, так и осталась — крючок крючком.
— Ну, мамаша, разогнись и входи! — сказал ей Дата.
Вошла, дверь прикрыла.
— Где это, тетенька, видано подглядывать в чужую дверь? — говорю я ей.
— У нас и принято! — сказала, как отрезала. Да как четко!
— Кто и для чего завел такой порядок? — спросил Дата.
— Пришли вы в дом, два чужака. Надо нам знать, о чем думаете, что делать намерены? Кормильцу все надо знать!
— А кто же этот твой кормилец, будь он неладен? — не удержался я.
— Ах ты, нехристь! Сам будь неладен! — разъярилась старуха. — Погляди на себя в зеркало, тварь бездомная, — это она мне-то, — Архип Сетура наш кормилец — отец, мать и господь бог! Кому еще быть?
Старуха бранилась долго. Дата ее слушал, будто царь Соломон перед нами вещал. Я пошарил по стенам — поглядеться бы в зеркало, на кого это я похож стал, что даже такая образина пальцем в меня тычет.
— Скажи-ка, мать, — втиснулся Дата в старухину брань, — твоего Сетуру Абелем или Архипом зовут?
— Раньше звали Абелем, а теперь Архипом, — сказала она и прибавила, будто одарить нас хотела, — сам пожелал. Надо так!
— Ладно, — сказал Дата, помолчав, — давай умываться.
Старуха отвела нас за угол дома, слила на руки, и только начали мы вытираться, как опять бухнул колокол и пошел по округе гул. Мы выглянули из-за угла.
Когда я зимовал у Сетуры, он жил в тесной землянке. Ничего, кроме землянки, на этом месте не стояло. Теперь здесь поднялась добротная ода, и несколько десятков слепых полуземлянок хороводом окружали ее. Опять потек колокольный звон, из землянок посыпались люди и затрусили к дому Сетуры. Выползали они из всех щелей и семенили, как кроты, выкуренные из нор. Один миг — и суету как слизнуло. Все стихло, намертво. И тут же какой-то человек, не видно кто, начал говорить. Да как? «Путь-путь-путь-путь», — поди разбери. Полопотал он, смолк — и тут все как загалдят! Каждый трещит, не переставая, будто надо ему только одно — переговорить соседа. Тарабарит площадь — ничего не разберешь.
— Подойдем поближе, Мосе, — говорит Дата, — поглядим, что там такое.
Подошли, и что же видим? Хромой псаломщик, Сетуровая правая рука, который — вчера за ужином он слова не проронил, — стоит на пне, который, видно, для этого дела и отесали, и бормочет, бормочет, слова не разобрать. Перед ним вытянулись в две шеренги человек тридцать и тоже бормочут, как заговоренные. Побормотали и молчат. Опять со своего пня запиликал Табагари. Теперь я разобрал:
— Даритель же хлеба нашего насущного — отец наш и благодетель Архип, — да здравствует во веки веков!..
«Архип»— в конце каждого стиха, а потом трижды: полихронион, полихронион, полихронион. Я это слово хорошо знал — одного Имедадзе из Сачхере так звали. Он мне и сказал, что по-гречески «полихронион» значит «многие лета».
Кончили молиться, Табагари сказал «вольно».
Все согнули ногу в колене — солдаты, да и только.
— Спиридон Суланджиа, сукин ты сын, нет для тебя сегодня работы! — своим тарабарским говором завел опять Табагари. — Пилат Сванидзе, гони его в шею из строя.
Пилат Сванидзе немедля двинул Спиридона Суланджиа по шее. Несчастный упал на снег и запричитал. Никто и ухом не повел.
— Смирно, направо, шагом арш! — выпалил Табагари.
И двинулся солдатским шагом весь этот обтрепанный люд.
— Куда это они, мамаша? — спросил Дата у старухи.
— На работу.
— А та вон каракатица тоже работать будет? — спросил Дата. — Это что за карлик?!
— Он и есть самый главный.
— А чего натворил Спиридон Суланджиа?
— Мало ему еще дали, будь он неладен, пусть Архипу спасибо скажет… — Старуха вдруг прикусила язык и давай на нас орать:
— Нечего в чужие дела лезть, а то живо отсюда вытряхнетесь!..
Не поверите, мы как язык проглотили — глядим, как карлик, едва перебирая ножками, подгоняет свою паству, — и ни слова.
Повела нас старуха в дом Сетуры.
Хозяин возлежал на тахте, усыпанной пестрыми мутаками и подушками. Он поднялся нам навстречу, с важностью отдал поклон и пригласил к столу, который опять был хоть куда.
— Угодила ли ты гостям, Асинета? — спросил он старуху.
— Дурные они люди, — отрезала старуха.
Сетура нахмурился и, подумав, сказал:
— Ну… ладно, ступай! Сам разберусь.
Едва старуха исчезла за дверью, как Сетура откинулся на подушку и ну хохотать.
Вдоволь нахохотавшись, Сетура отер слезы и говорит:
— Так-то, братцы, дурные вы люди. Слыхали, как Асинета сказала?
От всего, что мы повидали в это утро, настроеньице было у нас — хоть плачь. Смех Сетуры немножко взбодрил нас.
И правда, подумал я, — мало нам своих бед, из-за этих людишек еще переживать, пусть идут ко всем чертям, нам-то что… А вслух говорю, вроде бы в шутку, как сам Сетура:
— Из-за чего это, мил-друг, твоя Асинета среди ночи нас подняла?
— В пять часов у меня подъем, — сказал Сетура, — люди должны видеть, что порядок есть порядок, для всех одинаково, а то каждый захочет валяться в постели до полудня и дело пострадает. Не работа меня заботит — люди. Их жизнь и благо. Долгая это история, Мосе-батоно! Выпьем-ка за Евангелие от Матфея, вот сулугуни, берите, берите — отличная закуска к водке, лучше не бывает!
Мы выпили, и я опять спрашиваю у Сетуры:
— А Спиридону Суланджиа дали сегодня по шее и как паршивого котенка вышвырнули — что, тоже для его блага?
— А ты как думаешь? Лиши человека страха, он тут же почувствует себя несчастным. Знаешь, что Спиридон Суланджиа сказал? Архип, видите ли, дает нам ровно столько, чтобы мы с голоду не передохли! Богатство и роскошь — вот откуда вся порча и безнравственность. Ну, дам я этому вахлаку больше того, что даю. Он тут же скажет — дай еще; не получит большего — опять беда: начнет завидовать и воровать. Правильно говорят: нагулял козел жиру, потянуло вольчего мяса отведать. Что получается? Хочешь человеку добра — не дай ему обожраться. Почему Спиридон Суланджиа сказал то, что сказал? Выкормил он молочных поросят. Девять штук. Шестерых забрал я, трех оставил ему. Он их продал, в семью деньги пришли — отсюда и мысли. Забери я восемь поросят, оставь ему одного, и молчал бы, сукин сын, как миленький. Такие вот, брат, дела. Теперь недельку-другую Какошка Табагари не будет брать на работу этого болтуна, детишки его поскулят, он и пожалеет о том, что наболтал. И другим — пример: неповадно будет молоть языком, чего не надо, и сам Спиридон рад будет до смерти, что его опять к делу допустят и заработать дадут. Сказанное Спиридоном — воистину грех великий. Сам оступился, в убытке остался — это еще куда ни шло. Но ведь и другого тем самым подбил: и ты, мол, скажи подобное, накличь на себя беду. Вот что главное. Если я и вправду кормилец этим людям, то должен понимать: все, что людей может совратить с пути истинного, от чего народу — страдание одно, все надо в корне подрубать, в зародыше уничтожать, а то вырастет, силой нальется. Зачем мне торчать здесь, если денно и нощно не заботиться о людях, о том, чтобы им жилось хорошо? Прийти в этот мир если, пить и не принести людям добра — разве это жизнь? Ну, выпьем! За второе Евангелие, от Марка. Вот осетрина, угощайтесь, сулугуни хорошо на закуску, да рыбка лучше.