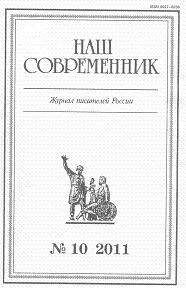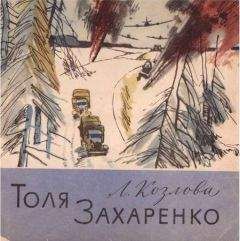Чалдоны - Горбунов Анатолий Константинович
К другим рыбакам голубь никогда не подсаживался: вероятно, опасался какого-либо подвоха. Мы одевались в разную одежду (смотря по погоде — плащ или куртка), он ни разу не ошибся, всегда приземлялся только к нам. Рыбачили мы иногда порознь. Геннадий — на одной стороне водоема, я — на другой. Прилетит, бывало, Огонек со своей бравой голубкой, у меня подкормится и — айда к Геннадию. Как он узнавал нас среди армии рыбаков?
Вскоре молодожены стали появляться поочередно: то он, то она.
—
Гнездо свили, — догадался Геннадий. — Парить сели.
Прошло время, и они привели с собой парочку писклявых деток небесной окраски, с полыхающей зорькой на груди.
—
Вылитый папаша! — изумленно воскликнул я, увидев их.
—
А тебе надо, чтобы они на Ваньку-китайца пошибали? — подковырнул Геннадий. — У такого мужика, как наш Огонек, не шибко на стороне хвостом вильнешь.
Я спросил ехидно:
—
За что тогда он поколачивает ее?
—
Для профилактики, — не растерявшись, ответил приятель. — Это мы своим кралям волюшки через край дали…
С приближением осени на водоем в гости зачастили туманы. Огонек со своим семейством стал прилетать на кормежку с опозданиями. Я журил его за это:
—
Долго спать стал, дружок…
Геннадий, наоборот, хвалил:
—
Умница, Огонек! В тумане-то и разбиться можно.
Однажды голубь прилетел один. От корма отказался. Скорбно
охал, протяжно стонал.
—
Неладно что-то у Огонька, — встревожился Геннадий. — Один прилетел!
Несколько раз еще появлялся Огонек, но к нам не садился. Покружит-покружит — и растает в солнечной дымке. Вскоре он исчез, а вместе с ним и наше рыбачье счастье.
Без Огонька на водоеме стало неуютно и тоскливо. В струях ветра, в переплеске волн нам чудилось его звонкое воркование, а в шорохе стареющих трав — шелест его упругих крыльев. На лико воды легла тень увядания. Ивы плакали по Огоньку золотыми слезами.
Эх, Огонек, Огонек…
Что случилось с его семьей, с ним самим, кто знает? Люди и те нынче теряются бесследно…
Сидим на берегу. Дымит костерок, в походном котелке варится чай. Над заалевшим от первых утренников водяным перцем зависают поздние стрекозы. Поплавки замерли на голубом зеркале бабьего лета. Я молчу, молчит и Геннадий. Над нами изредка проносятся голуби. И мы запрокидываем головы, с надеждой всматриваемся в скользящих по вечному небу птиц: не Огонек ли там летит, не несет ли обратно наше рыбачье счастье и нашу прожитую жизнь?
ЖИВИ НА ЗДОРОВЬЕ
Рассказ
Приземистый и широкий в крыльцах бобыль Василий Борцов копал в огороде картошку. Кидая в цинковое ведро крупные золотые слитки, дивился обильному урожаю и строил планы на будущее. Запоздалыш — кабанчик июльского опороса, сыто похрюкивая, терся о ноги хозяина, радовался солнышку.
Шоркая ичигами по жухлой щетине ощипанной домашними утками травки-муравки, к пряслу подошел пьяненький дед Кудряш.
—
Васюха, подь-ка сюды!
Тот разогнулся и недовольно буркнул:
—
Чего тебе?
Дед Кудряш пристально уставился на соседа и как обухом по голове ударил:
—
Знаешь чё, Васюха? Ты ведь скоро умрешь. Никаки врачи не спасут. Верно говорю.
Руки у Борцова задрожали, из разжавшихся от страха пальцев выскользнула золотая картофелина.
—
От-т-ткуда в-в-взял, что пом-м-мру?
Дед Кудряш лег усохшей грудью на прясло, объяснил:
—
На лбу написано. Помрешь, сам увидишь.
Что вверх, что вниз по реке Лене бывший лоцман дед Кудряш пользовался нехорошей славой колдуна. Мог, например, на расстоянии заставить у кого-либо в курятнике петь кур, а это, все знают, не к добру, или, не выходя из дома, у заречного мужика понудить буренку доиться кровью…
Обреченный Василий, заикаясь, пригласил вещуна в гости. Напластал соленой таймешатины, достал из погреба маринованных огуречных зародышей. После первой же чарки стал пытать:
—
Скажи честно, когда помру-то?
—
Через пятнадцать ден, Васюха, скрутит, — зловеще прошептал дед Кудряш, жадно поглядывая на стеклянную самускалку.
Бобыль ахнул:
—
Двадцатого сентября?
—
Так выходит, — печально вздохнул дед Кудряш. — Родню бы известить, гроб заране по мерке выстругать…
У Василия запрыгали губы.
—
Родных у меня нет… А доски на гроб… пож-ж-жалуй, найдутся…
—
Седня и начнем стругать, — решил дед Кудряш. — Чё волынку тянуть?
—
Погоди, сивый шаман, — запаниковал приговоренный. — Дай опомниться!
Где там опомниться… За добавкой в сельпо дед Кудряш на кривом посошке в один скок обернулся.
Бобыль достал с полки голосистую хромку — помирать, так с музыкой! Задорно растянул меха. Дед Кудряш задал трепака — половицы ходуном заходили.
Пароход идет по Лене,
Круто поворачиват,
Капитан сидит в каюте,
Шаньги наворачиват!
Уже пропели первые петухи, а в доме у Борцова пыль стоит столбом. В стайке пронзительно визжит оставленный без ужина Запоздалыш, помогая выводить плясуну заполошные частушки. Наконец, умаявшись, гулеваны вывалились на крыльцо — охолонуть. В бездонном озере неба гоготали пролетные гуси, на реке раздавались тоскливые гудки, от которых у хозяина дома защемило сердце: беднягу, оказывается, уже провожают в последний путь…
В обед Борцова разбудил громкий стук. Это дед Кудряш барабанит посошком в дверь. Василий, охая от головной боли, откинул крючок. Гость принес мешок сухого мха, хвастливо вывалил на середку горницы.
—
Лебяжий пух! Настелим в гроб, мякко будет лежать.
Вытащил из кармана затравку — четушку, гордо поставил на неряшливый стол.
Эх, пей, народ,
Эх, пой, люди,
Кондрат придет,
Помирать будем!
У бобыля опять запрыгали губы. На улице светит солнышко, чирикают воробышки, картошка вон уродилась крупная, а его скоро не будет. И некому сироту пожалеть, окромя доброго деда Кудряша, на которого злые посельчане столько сплетней навешали — на кривой кобыле за неделю не обскачешь. А добрый дед Кудряш уже распоряжается по дому, где и что лежит. Достал рыжиков из погреба, нарезал красненьких помидорчиков, тянет хлебосольно налитую до краев чарку опечаленному хозяину:
—
На-ка, сват — голубые кокушки, дерябни! Лекше будет думацца о смерти.
Пошли под завозню, где стоит в углу столярный верстак. Выбрали сколько надо смолистых досок. Одну из них дед Кудряш примерил к Василию и, довольный, прищелкнул языком:
—
Самый раз!
Остругивать их не хватило запала: четушки было явно маловато, даже на старые дрожжи. Столярных дел мастера выдохлись на первой доске. Борцов сердито швырнул рубанок под верстак, отправился на почту и снял все свои сбережения. «К чему они? Скоро помру. Хоть погуляю напоследок!» — рассудил он. Купил ящик самускалки. Несет на плече по улице, собаки шарахаются в стороны, а подозрительно похожие на него ребятишки бегут рядом и дразнятся:
—
Бобыль, бобыль! В штанах костыль!
Поселковые вдовушки лукаво гадают:
—
Жениться Василий собрался?
—
Куда там, жениться! У него, говорят, женилка не работает.
—
Не работает, ага… — прыснула рыженькая бабенка. — Ведро воды унесет.
Вот уже проплыли на юг дружные гуси, со свистом тянут над рекой последние горсточки каменной утки. Картошка у бобыля не копана. Ботва полегла, почернела и ослизла — побили утренники. Некормленый Запоздалыш, жалобно похрюкивая, роется в огороде, взламывая рылом блескучую от инея корку земли. В доме у рассупонившегося Борцова все так же справляет праздник смерти голосистая хромка. Вскорости к траурной компании примазался сын деда Кудряша — Федя, подхватистый и жоркий на зелье. У отца гора с плеч — есть кому летать в сельпо.