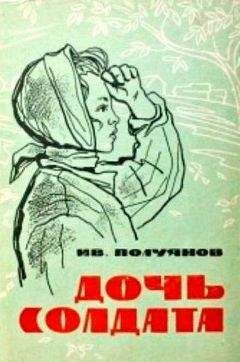Иван Полуянов - Седьмой патрон
— Ц-ц… — дядя Вася улыбнулся. — Помилуйте! Везут бесплатно, имею баланду и место на нарах. Помилуйте, чего ж еще больше желать?
Потом нахмурился, лицо его отвердело.
— Не ты мне, я тебе нужен, Серж. Располагай мною, рад быть полезным. Рад, что мир тесен, и мы встретились. Поверь, привязался к тебе. Что, моя откровенность настораживает? Пустое, Серж! Подозрительность, — что может быть гнуснее? Я искренен, мне ничего не нужно… Вернее, нужно, чтобы ты выслушал меня. Хочется выговориться. Но перед кем? Родина. Россия. Честь и долг… Сотрясение воздуха! — крылья его носа трепетали, в зрачках вспыхивали колючие искры. — Русь началась с варягов, Серж. Что татары Русь угнетали — бред, забудь! Не было бы татар с их кнутом, кто бы согнал уделы прилепиться к Москве? Опять варяги, только с раскосыми глазами. Русь, кого она давала? Стенька Разин — вор с большой дороги. Емелька Пугач — снова разбойничек… Петр Великий не зазвал, а привез новых варягов. Не править и володеть — самодержец! — а учреждать порядки на западный манер. Варяги — вот кто сегодня нужен России! Иначе опять поплывем киселем.
Рассмеялся вдруг, сверкнули зубы из черной бороды:
— Слышал, Серж? Мужики здесь — не нашлось барских имений, грабить некого — совдеп от огорчения сожгли. Каково, а? Ц-ц… Нет дворян и, извольте видеть, Советы виноваты!
Он задвигал челюстями, словно перекусывал на зубах что-то жесткое.
— Если мыслить, то широко, а действовать — твердо, решительно. Тебе, Серж, представится случай проявить себя, я обещаю.
— А откуда, вы меня знаете? — не утерпел я. — Наслышан… — дядя Вася улыбнулся. — Ну, не все сразу! Может, я хочу тебя заинтриговать?
Ушел, крепко ступая по хрустящей прибрежной гальке.
У буксира ударил и зачастил молот.
Вечером через луг прошли к перевозу новобранцы, вел их давешний агитатор. Взыгрывала гармонь. Девичьи голоса плакали:
Берут мово милого в солдаты,
Возьми меня, миленький, с собой.
Машет с угора платок
Раньше будущее представлялось мне ясным. Не устраивало оно — особый вопрос. Но было ясным: кончу реальное, приищу место. Конторщик или бухгалтер — все хлеб. Предел желаний — техник, в фуражке с кокардой. Несусветно повезет — выбьюсь в штурманы либо механики…
А сейчас? Кто я и что? Найдется ли мне место?
Зыбко все, неопределенно. Потяну за ниточку — выскользнет; дерну — оборвется…
Да еще чужой на борту не дает сосредоточиться. Чухонец, вчерашний агитатор. Не было печали, черти накачали.
Порадок! Прежде всего дисциплина и по-радок, — каркает новоявленный командир, топает по палубе сапогами.
Он страшно худ — мослы, обтянутые сухой серой кожей. Лицо с выпирающими скулами острое, как топор, — из-за прямого тонкого носа, острого удлиненного подбородка. Волосы серые, стриженные коротко, по-солдатски, серые же усы и наивные серые, уходящие в голубень глаза. Ян рассказывает:
— Плыву на пароходе, узнаю: в волости мобилизация, но совершенно игнорируют повестка, пьют пиво! — от возмущения у Яна потемнели глаза. — Я сошель с пароход… Кто дольжен наводить порадок? Ты, — он ткнул пальцем в папу. — Он, — палец переместился на меня. — Я! — он положил ладонь себе на грудь. — Революция наша! Ее судьба — наши руки… голова… сердце.
«Вот весело, — подумал я. — Интересно, кто же тогда заварил кашу? Армии нет, разброд, пайки овсом. От кого, интересно, это пошло? Не от ваших?»
— …Мы записался в партию за порадок. Это не порадок, когда у рабочий человек кровавые мозоль, барак с клопами, а буржуй сладко кушает, ездит в карете. Революция — порадок на весь мир!
Не знаю, как было бы со «всем миром», однако баржу надраили, точно для адмиральского смотра, если таковые бывают в ездках по Северной Двине. О кубрике молчу — сам мыл. Даже потолок, — будто мы по нему ходим и наследили…
Уходя на вахту, я демонстративно взял драгунку, давая понять Яну: мы при оружии и, пожалуйста, заткнись, тоже ведь не лыком шиты. О, что поднялось! На стволе проступила ржавчина, спору нет. Затвор чуток заедает. Известное дело, не новье, кто только этот карабин не таскал.
— Нельзя, — закаркал Ян. — Боевое оружы… Не порадок!
Битый час я чистил драгунку. Затвор Ян разобрал и исправил. Потом пристал:
— Боевое оружы, оно против кого?
Я дернул плечом:
— Полезет кто, того и шарахну промеж глаз.
— Стидно! — укорил Ян, нахохлившись, — Рабочий юнош рассуждает как люмпен! — и взялся поучать: — Баржа — территория Республики, ты должен защищать ее от посягательств врага, внешнего и внутреннего. Полумиль оружы — держи крепко. Стреляй и помни: ты промах, тебя — нет…
Он закашлялся. Ян часто кашляет. Задыхается, хрипит, синюшняя бледность выступает на залитых слезами щеках.
Я вышел — надо сменить отца.
Во время вынужденной стоянки колесо удалось исправить, но выявилось, что машина барахлит. Еле плетемся.
Вон опять, настигая, какой-то пароход молотит плицами… А, рейсовый, пассажирский.
Белый двухпалубный щеголь, требовательно гудя, — уступите ему фарватер, — поравнялся с баржей. Идем рядом, бок о бок, сблизились настолько, что можно разобрать запахи с камбуза; бегавший с мячиком по палубе мальчуган неожиданно бросил мячик мне, и я успел вернуть его шалуну.
Успел и увидеть на капитанском мостике человека в тужурке и кожаной кепке… Урпин? Тут пароход взял правее и словно заслонился дымом из трубы.
— Папа, — крикнул я отцу. — Дядя Костя!
— Какой Костя? — отозвался отец.
По его глазам читалось: мой вопрос он хорошо понял, дядю Костю из Котласа видел.
— Ладно, проехали, — пробормотал я.
Мог я и обознаться, в конце концов, только зачем туман напускать, если действительно Урпин на пароходе?
Буксир дрова жрет: ни одной лесной биржи не минуем, непременно пристанем забрать топливо.
Поленницы сложены на угоре, чтобы весной не достала полая вода. Для спуска дров есть деревянные лотки. Поленья скользят вниз, набирая скорость, и с разлета трах друг о друга — щепки брызжут.
Мы пришвартовались к полузатопленной барже. Буксир пристроился ближе к лоткам, где уже стоял давешний рейсовый пароход.
Пассажиры высыпали на берег: кто поразмяться, кто купить ягод, молока, вареной картошки, шанег — ими торговали бабы и ребятишки, скопившись у трапов.
Я обежал верхнюю и нижнюю палубы белоснежного красавца, корму и нос, потолкался на берегу, — Урпина нет. В первый и второй класс нечего заглядывать: каюта дяде Косте не по карману. В гости к нам, бывало, на отцовской барже приезжал, выгадывая лишнюю копейку. На железной дороге он служит, по вагонному хозяйству.
— Берегись! — орали матросы, в потных полосатых тельниках летая с носилками дров. — Эй, с дороги! Ушибем!
На буксир тоже грузили дрова.
Я ловил на себе косые взгляды. Успел матросов из команды узнать, здоровался теперь, но мне или не отвечали, или бурчали невразумительное. Один дядя Вася, таскавший наравне с другими носилки, улыбнулся мне.
Я решился и постучал в капитанскую каюту.
Таня стирала. Распрямилась над тазиком, локтем отвела растрепанные прядки волос, упавшие на лоб.
— Садись. Я сейчас.
Подхватила тазик с бельем, поспешно вышла. Показалось, она плакала.
Окно каюты зашторено, надувается занавесь от ветра. Солнечный зайчик, отражение блика от воды, весело, беспечно пляшет на полу: подпрыгнет к Таниным полусапожкам в углу и отскочит резво. Будто заигрывает с ними, полусапожками на высоком каблуке.
Лежала на столе книга. Придвинул ее. Как закладка, листок бумаги, и книга раскрылась словно сама собой, когда взял ее в руки.
Ну-у, медицина! Я-то воображал, что стихи. На рисунках кишки да печенки. Как останавливать кровь жгутом и накладывать гипсовую повязку на задние конечности.
Закладка выпала. Поднял ее с полу.
Письмо. Летящие, нацарапанные химическим карандашом строки:
«…Танюша, друг мой юный! Поземка в поле метет, из пурги орудия грохочут, рота ждет сигнала в атаку. Идти нам со штыками против германских пулеметов, — начал я читать и не мог остановиться. — Чадит коптилка, время торопит, я успеваю сказать тебе лишь самое главное. Знай: что есть у меня, все твое. Себе я оставляю верность тебе и тот единственный вечер в Архангельске, гимназический бал и вальс «Амурские волны». Рождается новая жизнь, Таня, верую — она наша, мы в ней встретимся, чтобы не расставаться — до березки белой в изголовье»…
Вернулась Таня: я держал письмо и не делал попытки его прятать в книгу.
— Я прочитал… — мой голос был ломкий, звучал, как чужой. — Я нечаянно… Я не раскаиваюсь! Но я нечаянно.
Она села напротив меня на застланную кровать.
— Я не сержусь. Его звали, как тебя: Сергей. Он погиб в том бою. Под Псковом нынешней зимой. Он был у красных… Мы были знакомы три часа, остальное — разлука и письма. Сергей приезжал в Архангельск принимать грузы для училища. «Девушка, проведите на бал, будто я ваш кузен, потанцевать смерть хочется.» Три часа и разлука, как целая жизнь! Если война, Сережа, я уйду сестрой милосердия, и никто-никто не умрет на моих руках — не позволю!