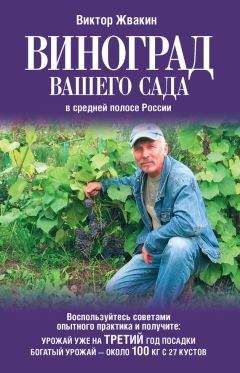Евгений Люфанов - Великое сидение
– Поочередно дремите, – приказывала им царица Прасковья.
– Вовсе, государыня-матушка, глаз не сомкнем, – заверяли мамки и девки.
Ну, а если какая-нибудь из них и сомлеет, то – кулак под голову и тут же на траве по-кошачьи задремлет: один глаз прикрыт, а другой в щелку смотрит.
Поначалу пути многие Измайловские собаки за телегами побежали, но вскоре одна за другой стали отставать и обратно в Измайлово возвращаться. Осталось их при обозе с пяток, самых преданных своим придворным хозяевам. С собаками веселей. В случае чего они брех поднимут, ежели в потемках посторонний к возам подойдет. На попов, как на чужих, сперва побрехали, но скоро признали их и даже приветливо хвостами помахивали.
Еще до прежние цари – Иван Грозный и Борис Годунов – учредили Ямской приказ и поселили в Москве ямщиков, которые обосновались в слободах при заставах – Дорогомиловской, Переяславской, Коломенской, Рогожской, Тверской. Сперва переполошились было на Тверском яме, завидев большой обоз: может, это проезжающие государевы люди из дальних мест и придется им под все телеги коней менять. Отлегло на душе, когда узнали, что на собственной тяге из Измайлова царица Прасковья едет. Ну, ин и скатертью ей дорога, пускай отведает, каков путь.
Люди Тверского яма помогли царицыным конюхам поскорее распрячь и стреножить коней да пустить их на луг кормиться, а поодаль от них отогнали на пастьбу скот. Гервасий с Флегонтом вызвались постеречь скотину в ночном: пускай она травушки наедается, силушки набирается на новый свой путь.
Под утро на Тверскую заставу прибыли стражники. Князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский велел, чтобы его свояченицу царицу Прасковью вооруженный конвой сопровождал до самого Петербурга.
Утром снова запрягли лошадей, на скорую руку люди перекусили – и в путь.
Прощай, Москва-матушка!..
Но только начали переваливаться по дорожным колдобинам застоявшиеся в ночное время колеса, как произошла нежданная остановка. Обоз царицы Прасковьи нагнала карета царицы Марфы Матвеевны, вдовы царя Федора, а следом за ней подкатили кареты царевен Натальи, Марии и Федосьи, сестер царя Петра. А еще за ними ехали князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский со своей супругой княгиней Настасьей Федоровной, сестрой царицы Прасковьи, да Иван Иванович Бутурлин и некоторые другие именитейшие сановники.
– Батюшки-светы! Куда ж это вы?..
А все туда ж, в Петербург, по зову царя Петра. И к ним гонцы прискакали с государевым повелением в Петербурге быть.
– Охти-и… – качала головой царица Прасковья.
Ведь не иначе будет, как всю эту приставшую к ее обозу ораву придется кормить-поить, содержать в пути-дороге на своем коште. Налегке все другие поехали – незапасливые, беззаботные, понадеявшись на ее припасы. Что ж поделаешь! Придется привечать их. Пускай не злоязычат, что, мол, Прасковья Федоровна с поджатыми губами и тусклым взором встретила их.
– Вот какая радость нечаянная! – заулыбалась она, будто так уж обрадованная.
Надо будет велеть, чтоб на первом же привале корову зарезали, дорогим гостечкам на корм.
Ехали долго, и казалось, пути не будет конца. А тут еще зачастили дожди и в густую, непролазную грязь замесились дороги. Тяжким, томительным был путь, а еще более тяжкими остановки. Облепляли тогда карету царицы Прасковьи верноподданные, валились в ноги, тянули руки за милостыней, и Прасковье столько денег по самым мелким мелочам пришлось щедрой рукой раздать, – за год в Измайлове не потратила бы. А потом до того наскучило ей это попрошайничество, что обратилась к князю-кесарю, чтобы тот приказал оберегать ее от нищих людей и больше не докучать просьбами.
– Ну! А я думал, тебе любо, что льнут так, – сказал Ромодановский и приказал стражникам сразу же деревенских людей отгонять, едва лишь они завиднеются.
Лучше подальше от селений где-нибудь у речки или у ручья останавливаться, на безлюдном месте, тем более что в деревнях ничем разжиться нельзя за их скудностью.
Устала царица Прасковья сетовать на дорожные тяготы, на судьбу, и надоело ей одергивать дочерей, то и дело лезших в окна кареты поглазеть на то, на другое. А на что глядеть-то? Что с одной, что с другой стороны – одинаково неприглядно. Чередуются между собой то леса дремучие, то лощины да взгорья, то болотная топь, и редко-редко встречаются на пути захудалые, вовсе нищие деревеньки. Нерадостно глазу смотреть на то, и царица Прасковья махнула на все рукой, – пусть лучше голову чаще дрёма долит.
Ехать было небоязно: спереди и по сторонам обоза – верховые стражники с ружьями, чтобы от лихих людей возы охранять. Сказывали бывалые ямщики, что путь от Москвы до Петербурга занимает недель пять. Где – грязь, а где – прохудившийся или вовсе поломанный мост конскую прыть попридержит, да придется еще останавливаться, чтоб коней кормить.
Вот оно какое выпало подневольное путешествие.
Парашка спала, прижавшись к материнскому боку, а Катерина с Анной достали кожаную затяжную кису, в которой у них были самоцветные камни, и стали любоваться ими. Приезжал в Измайлово на прощеное воскресенье каменный добытчик Василий Никитич Татищев перед своей отправкой на Уральские горы и подарил им, царевнам, эти самоцветные камешки, рассказав, какой чудодейственной силой они обладают.
– Кто яхонт червленый при себе носит, снов страшных не видит, – припоминала его слова Катерина.
– Ага, – подтверждала Анна. – А вот этот – врачует сердце, дает силу и память, – рассматривала она яхонт с другим оттенком.
– Бечета – сердце веселит, кручину и непотребные мысли отгоняет, – добавляла Катерина. – Самоцветный камешек родился в крутой горе, излежался промеж камки, бархату, – нараспев проговорила она.
Много их, самоцветных: аметист, гиацинт, лал, рубин, бирюза, лазурит, сердолик, алмаз бриллиантовый… Ученый человек этот Василий Никитич, все камни прознал и много всяких наук превзошел. Рассказывал, какие бывают науки: нужные – горноискательные и врачевательные; полезные – цифирные и географические; щегольские науки – стихотворные и музыкальные; науки любопытные, но тщетные – астрология и алхимия… Смеху потом было с ним! Маменька призвала провидца-вещателя Тимофея Архипыча и велела ему провещать, скоро ли Василий Никитич назад возвернется из своей поездки в каменные горы, а Тимофей Архипыч этого Татищева не жаловал за то, что тот руки ему не целовал, и сказал, что, как он много руды накопает, так его и закопают там. А Татищев за это пожелал, чтоб типун на языке у провидца вскочил. Вот смеху было!
От сильного толчка кареты проснулась Парашка, скучно позевала, вытерла ладошкой заслюнявившийся рот и предложила в карты сыграть: в подкидного дурака.
– Нашла что придумать! – осуждающе посмотрела на нее мать. – Мужичка, что ли, ты, чтоб дурой оставаться?
– А я не останусь, – убежденно возразила Парашка.
– Ну, останусь я, ну, они, – кивнула мать на Катерину и Анну. – Срамно говорить такое.
– Тогда в короли давайте, – сменила Парашка желание.
– Ага! – метнула на нее Анна негодующий взгляд. – А при короле мужик должен быть. Ты захочешь им стать?
Парашка подумала и не захотела.
– Лучше в свои козыри, – предложила Катерина.
В свои козыри играть согласились.
Кидала царица Прасковья карту за картой, не очень-то заботясь, в чью масть придутся они. Думы были о другом, о бренности всего земного, чему оказываются подвержены и цари.
Едет вот она, государыня царица, и другие царского звания люди, а в какой скудости едут! Ай-яй, головушка горе-горькая!.. Умалилась, отощало, вовсе захудалым стало царское звание. С покойного царя Федора Алексеевича, как и с упокойного мужа, царя Ивана Алексеевича, спрос невелик. Оба от природного своего рождения квелые цари были, но нынешний-то государь Петр Алексеевич в здравом уме, в твердой памяти, а самовольно ведь он свою высокую и великую царскую честь не только умалять, а изничтожать начал. Живо помнится ей, царице Прасковье, как в последний раз он в Москву приезжал: поздоровались, облобызались, а руки-то, руки-то у царя… Мозоли на них, мужицкая-премужицкая, самая огрубелая кожа. И это царь! Говорится, яблочко от яблони далеко не катится… Нет, укатился царь Петр Алексеевич от своего родителя царя Алексея Михайловича. Далече они один от другого во всех своих навыках и обычаях. Алексея-то Михайловича, взявши под холеные белые руки, бережно к трону водили, и сидел государь на своем великом сидении, уподобляясь святейшему божеству. А нынешний… Да ведь он не сумеет ни подойти величаво к трону, ни подобающе сесть на него. По смерти царя Ивана ни разу не всходил на фон, на то царское великое сидение, и по сей день всходить на него не желает. Ох, чудно, чудно! Вымахал царь Петр в высоченный рост, а довольствуется малым, низким, приземистым жильем. В похвалу себе говорил, что когда за морем был и корабельному плотничеству обучался, – это царь-то, царь! – так постояльцем у какого-то мастерового человека жил и спал в шкафу у него. И какая же в лом похвальба могла быть, когда всему его тогдашнему заморскому пребыванию чистый страм. И ее, царицу Прасковью, и всю родню свою до скудной жизни довел. Должно, хотел бы, по своему подобию, вовсе довлечь всех до последней крайности, чтобы и они, как он сам, ничего не имели да постоянно в походах были. Не нужно, дескать, ни домов-дворцов, ни вещей в них, ни сряды. Ходи, как он, – в стоптанных башмаках да в чулках, самим штопанных… Вот она, царица, в дальнюю даль, на край света едет, а что везет с собой? Как есть – ничего. А ведь царица она!.. Упокойный царь-свекор, Алексей-то Михайлович, – царство небесное блаженной его памяти, – мысленно перекрестилась, – карты мешали пальцы в щепоть сложить, и с остервенением отшнырнула все свои козыри, удивив дочерей.