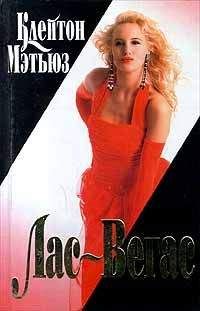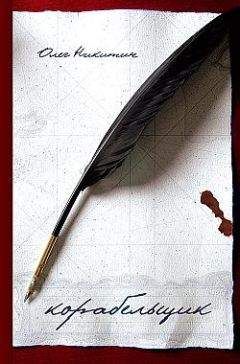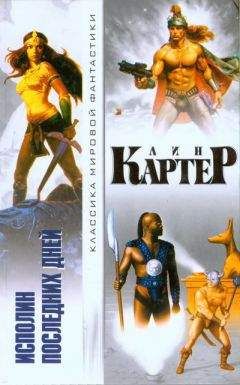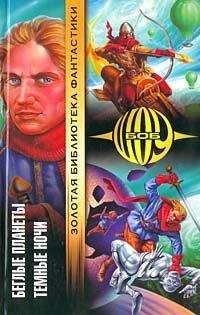Владислав Бахревский - Столп. Артамон Матвеев
На дворе — стихия, а во дворце — уныние. Прямо с посольского съезда пришёл к царю Никита Иванович:
— Поляки требуют Киев и Чигирин. Упёрлись, как бешеные быки.
— Послов король прислал к моему величеству знаменитых, да бесчестных! — вспылил Фёдор Алексеевич. — О Журавинском договоре ни слова не промолвили. А ведь по сему договору король обещает турецкому султану давать против России десять тысяч войска.
Никита Иванович поклонился:
— Я припру, великий государь, Чарторыйского Журавинским договором. Приберегаю сей довод.
— Уж больно мы с ними носимся! — Было видно, Фёдор Алексеевич не на шутку рассердился. — Огласи ты им, Никита Иванович, указ моего величества: пусть домой уезжают. Тотчас! Тотчас! Без них от султана оборонимся. У нас нынче затеяно дело для обороны куда как верное.
Фёдор Алексеевич говорил об Изюмской черте. Затея добрая, да не скорая, но старый князь порадовался решению царя отпустить послов. Если королю и впрямь дорог договор — поумерят гордыню.
На улице лежал снег и град, в кремлёвских хоромах затапливали печи. Фёдор Алексеевич с Языковым и Лихачёвым, расположась у огонька, слушал доклады о старых засеках и смотрел чертежи Изюмской черты. Указ о строительстве крепости на Изюмской сакме[52] был уже послан стольнику Григорию Касогову.
Граница России в конце царствия Алексея Михайловича отодвинулась на юг на сто пятьдесят, а где и на двести вёрст. Фёдор Алексеевич начал раздачу южных земель дворянам в первые же месяцы царствия. Указ был дан 3 марта 1676 года, а в 1678-м за дворянами уже числилось 13 960 крестьянских дворов, да князь Василий Васильевич Голицын сверх того имел 3541 двор.
Люди и их животы нуждались в защите от крымских набегов. Чертёж указывал: стена Изюмской обороны будет семь метров высотой, в ширину — восемь с половиной. Перед стеной пятиметровый ров.
Просмотрел Фёдор Алексеевич планы ещё одной черты, от Верхнего Ломова через Пензу к Сызрани.
— Где стены, там и жизнь! — осенил чертежи крестным знамением.
— Земли во всех этих краях плодородные, и тепла больше, — сказал Лихачёв. — Но сколько нужно денег на все эти стены, рвы, крепости!
Царь вздохнул: требовала латания и старая Белгородская черта. Хан Селим-Гирей в нескольких местах устроил громадные проломы.
Тут же, у печи, сочинили указ Касогову, пусть осмотрит старую черту и пришлёт отписку, сколько средств нужно на новые стены и на восстановление старых.
Затевая великое каменное строительство, Фёдор Алексеевич ещё в начале 1678 года устроил перепись. Оказалось, что он, самодержец земли Русской, имеет 88 тысяч крестьянских дворов. Бояре, окольничие, думные дворяне все вместе — 45 тысяч, патриарх — 7. Самый богатый боярин — 4600, а вот церковная собственность была самой большой — 116 461 крестьянский двор.
Фёдора Алексеевича озаботила другая статистика. На одного дворянина приходилось в среднем меньше одного тяглового двора. Дворянство — сила царства, и сила эта была нищая.
— Ох, Господи! — пожаловался Фёдор Алексеевич своим приятелям. — Земля есть, но откуда крестьян взять, чтоб посадить на землю?
— А не многовато ли народа у церкви? — спросил прямодушный Лихачёв. — Ты, государь, моление владык исполнил — упразднил Монастырский приказ, пусть и владыки порадеют о государственной пользе.
— Забирать земли у святых обителей? — Фёдор Алексеевич головой покачал. — Как с таким к патриарху подступишься?
И тут доложили: святейший Иоаким приехал.
Патриарх вошёл, ласковый, радующий, но все-то жилочки у царя-отрока сделались хрустальными, того и гляди, расколется.
Иоаким удивился жарко пылающей печи:
— На улице теплынь.
— А снег? А град?
— Ручьи на дорогах. Увы! Увы! На огороды смотреть больно. Месиво.
— Отче! Помолись о нас, грешных! Одно Господь взял, пусть в ином наградит! — Детское было и в лице Фёдора Алексеевича, и в голосе.
Святейший ощутил, как вскипают в сердце умильные слёзы: самодержец ростом высок и учен зело, но — ведь подросток. Хотелось погладить паренька по худой шее, до волос дотронуться. Алексей Михайлович волосы стриг, а Фёдор вон какие отрастил. Иоаким приехал говорить о деле, о труднейшем, посольском, и чувствовал себя почти виноватым — такую гору приходится взваливать на размашистые, но уж такие худющие плечи великого отрока.
— Ваше величество! Сын мой! Я слышал в Думе — ты изволил дать отпуск королевским послам.
— Они хотят того, что им не принадлежало от века и не будет принадлежать до Страшного Суда.
— Слава тебе, государь! — Умные карие глаза патриарха излучали любовь и смех. — Такие уж они, ясновельможные, приехали своею панской милостью нас одарить, но торгуются, как жиды. Такая порода. Цену хотят взять за мир немыслимую, а того не понимают: у мира цены вовсе нет. Сё Промысел Божий, бесценный. На мир денег не надобно, деньги подавай войне. Вот и осмелюсь, великий государь, молвить перед тобою слово сердца моего. Нет греха переплатить за мир, всё равно будешь в выгоде.
— Чарторыйский требует Киев и Чигирин! — Фёдор Алексеевич даже заморгал обидчиво.
— У Чарторыйского маетности в Велиже. Верни, государь, Велиж. Радзивиллы тоскуют по Невлю да по Себежу. Одари и этих милостью — будут мимо короля тебе служить, свету. Сто тысяч господам послам мало — дай двести. Забудут о Киеве.
— А Чигирин? Им Чигирин подавай, а они его султану поднесут. Столько крови пролито за сей град, думать о том больно.
Фёдор Алексеевич смотрел на Иоакима в упор — куда клонит? Глаза круглые, ясные. В такие глаза смотреть — духа не хватает.
Патриарх ничего больше не сказал, и высокий голосок государя прозвенел упрямо, с вызовом:
— Чигирин надобно срыть. Пусть не зарятся на него ни султан, ни изменник Юрко Хмельницкий, ни король. Срыть его, как срыли Карфаген.
В последние полтора года земли под Чигирином поливали кровью с безумной щедростью. Турецкий визирь Ибрагим-паша положил здесь двадцать тысяч человек, двух сыновей крымского хана и свою голову тоже: получил от султана зеленей шнурок. Русские после той битвы похоронили две с половиной тысячи стрельцов, да пять тысяч было ранено.
— Года не прошло, как обновили и стены, и башни, — сказал патриарх, поражённый мыслью царя.
— Вот его и требует у нас новый визирь турецкий Кара-Мустафа. — Фёдор Алексеевич успокоился, говорил ровно, и было удивительно слышать разумные, зрелые речи от юноши. — Ты, святейший, о мире печёшься, и я, грешный, уповая на молитвы твои, послал указ на Дон, под Азов: пусть казаки, ратники, корабли домой идут. Войною мир не устроишь. А вот города полякам жертвовать, деньги... Получат одно — на другое роток разинут.
— Великий государь, отдачу можно на бумаге провозгласить, а сами города задержать, покуда король не поклянётся на Евангелии.
— Быть по сему! — сказал Фёдор Алексеевич.
И святейший в который раз изумился: ведь так и будет. Господи, какой царь дарован России! Здоровья бы ему да счастья государского.
10
Царское счастье у обывательского на посылках. Обыватель глаза к небу поднял — царь дело сделал. Но и то правда — иное обывательское несчастье государю даётся ради славы.
На Медовый Спас на ночь глядя заполыхала Москва. Фёдор Алексеевич с Ивана Великого смотрел на огненную бурю, о дожде молился, но воздух звенел от сухости и был горек.
Утром в Думе бояре доложили: сгорело шесть тысяч домов.
— Да уж было — шесть тысяч! — вскричал Фёдор Алексеевич.
— Прости, государь! Опять столько же! — повинился за всех князь Юрья Долгорукий. — До зимы, слава Богу, далеко. Отстроятся.
— Всем, кто захочет ставить дома каменные, — от меня, великого государя, будет ссуда на десять лет! — объявил царь.
В тот же день, может быть, от огорчения, а скорее всего, продуло на колокольне — Фёдор Алексеевич слёг.
Пока болел, счастливо решилось посольское дело. Королевские комиссары согласились подписать договор о перемирии на тринадцать с половиной лет. Присягу назначили на 17 августа. Патриарх предлагал провести церемонию в храме святителя Николая, но послы были католики, в православный храм идти не захотели. Во дворце подписывали договор. А ещё через неделю великое коронное посольство проводили из Москвы. Граф Казимир Сапега просился ещё пожить при его царском величестве за свой счёт до окончательного утверждения договора, но ему было отказано.
Новолетие одарило краснопогодьем. И тут царевна Татьяна Михайловна ударила челом племяннику, просила позволения помолиться в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре.
— Но ведь Никонов монастырь — затея гордыни, — вырвалось у Фёдора Алексеевича.