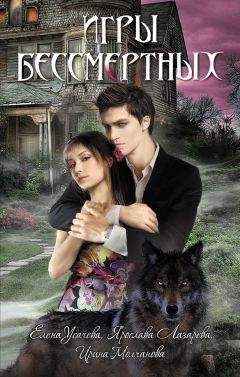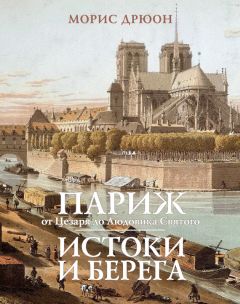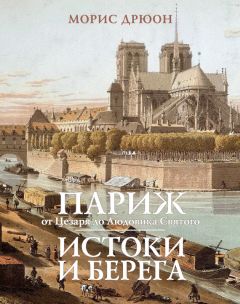Морис Дрюон - Истоки и берега

Обзор книги Морис Дрюон - Истоки и берега
Морис Дрюон
Истоки и берега
Средиземноморью посвящается
Эта книга посвящена Средиземному морю, вот уже семь или десять тысячелетий остающемуся неиссякающим источником цивилизаций, существующих и поныне. Здесь, на берегах этого невероятно плодовитого моря, родились знания, логика, эпическая поэзия, письменность, астрономия, появились обработка и литье металлов, здесь человек впервые осознал свою связь со Вселенной. Здесь создал он свою космогонию, вернее — череду космогоний, некое общее представление о мире, здесь начал познавать самого себя, здесь ощутил желание предвидеть и самому строить свою судьбу. Вся история человечества, сначала в масштабах одного континента, потом — всей планеты, происходит отсюда, из этого небольшого озера, из этого материнского лона, из этой голубой матки, ибо в настоящее время ничто на земле не решается и не совершается без оглядки на Европу, истинную дочь Средиземноморья.
Не думаю, что можно по-настоящему понять наше время, объяснить его страхи, воздать должное его свершениям, оценить опасности, ему угрожающие, не изучив достаточным образом Средиземное море — место скопления духовного планктона.
Что касается меня, то с тех пор, как я стал взрослым, почти не было года (если вообще таковой был), чтобы я не побывал на его берегах, не побродил по его пляжам, не посетил стран, им омываемых, не бороздил его волн. Оно дало мне больше, чем любая книга, или, вернее сказать, благодаря моим путешествиям я стал больше понимать в иных книгах, в частности древних авторов, в которых кроется ключ к пониманию всего на свете. Лишь побывав в Дельфах, Олимпии, Додоне, у святилища Амфираоса, в Эфесе, Дидиме, можно по-настоящему постичь смысл творений Гесиода и Гомера. Ни Библия, ни Евангелия не пробуждают в душе такого отклика, что рождается после того, как вы пройдете вдоль узкого Иордана, увидите безумное кипение красок, которыми солнце заливает соляные холмы по берегам Мертвого моря, полюбуетесь Иерусалимом с высоты Храмовой горы, знавшей Давида и Соломона. Гермес Трисмегист не много вам даст, если прежде вы не перелистаете гигантские каменные страницы — стены храмов Луксора. И надо пройти под триумфальными арками, что от Востока до Запада, от Джараша до Волюбилиса свидетельствуют о воле и долге Древнего Рима, чтобы постичь смысл преодоленных страхов Марка Аврелия.
Сидя перед умолкшими оракулами, заброшенными храмами, затихшими амфитеатрами, разбросанными вокруг Средиземного моря, и даже шагая в толчее современных столиц, при условии, что они выстроены над лабиринтами античных городов, мы слышим внутри себя голоса людей, сделавших человека таким, каков он есть, какими являемся мы сегодня.
Одно из преимуществ нашего времени, которым я всегда широко пользовался, это простота сообщений, позволяющая нам часто и быстро перемещаться к нашим истокам, чтобы вновь и вновь утолять жажду и освежать лицо их очистительными водами.
Собранные здесь тексты родились из путешествий, чтений, раздумий. Я не стал выстраивать их в хронологическом порядке, что не имело бы особого смысла, ибо большинство из них являют собой совокупность впечатлений и заметок, собранных в самое разное время. На этих брегах времени мысли откладываются илом — одна поверх другой. Я предпочел соблюсти порядок географический.
Вы не найдете здесь записей о Риме, где я прожил два года в молодости и бедности, ежедневно обогащаясь за счет сокровищ, которых не купишь ни за какие деньги; ни о Венеции, по каменным и водным лабиринтам которой я скитался пять лет подряд. Пламенный Рим, сверкающая Венеция… Первый — заваленный обломками былых триумфов, вторая — отягощенная богатствами и наполовину поглощенная топкой лагуной, города-миражи, города-ловушки, города-зеркала, незаменимые декорации, единственный в своем роде театр для тех, кому придет желание поставить на его подмостках пьесу о человеческих страстях и иллюзиях, как это пытаются делать романисты. В этом смысле я бесконечно обязан Венеции и Риму: здесь разыгрываются многие сцены из «Сильных мира сего» и «Сладострастия бытия», хотя, описав эти города в своих романах, я так и не смог избавиться от тоски по их обольстительной красоте.
Не найдете вы в этом сборнике и отдельного текста, посвященного Греции. Ибо Греция на всех уровнях цивилизации, которые накладываются здесь один на другой, начиная с доисторических времен, так значительна, так щедра на примеры, на ассоциации, являясь, вне всякого сомнения, самым обильным «источником памяти», что мне пришлось посвятить ее людям, ее богам, ее векам две отдельные книги — «Александр Великий» и «Дневники Зевса», — которые мне дороже всех остальных опубликованных трудов. Не потому, что я считаю их верхом совершенства: просто в них я вижу свой скромный вклад в строительство запруды на «реке забвения», воды которой угрожают поглотить нас всех.
Это постоянное возвращение к воспоминаниям, к руинам и памятникам, которыми усеяны страны Средиземноморья, я могу оправдать не только и не столько удовольствием, которое получаешь от смакования прошлого, а желанием объяснить настоящее и понять будущее.
Повсюду на берегах священного моря я вижу Прометея: он давно уже покинул горы Кавказа и теперь, прячась в глубине заливов, замышляет с материей свои заговоры или, стоя на вершине скалы, бросает открытый вызов Юпитеру.
Когда Прометей трудится заодно с Юпитером, когда созданный им маленький порядок органично вливается в большой порядок, находящийся в подчинении Юпитера, порядок царит и на планете людей. В противном случае всеобщая гармония нарушается и — естественно и неотвратимо — с лица земли исчезает именно малый порядок. Грех Прометея не в его дерзости, а в повязке тщеславия, которая, внезапно ослепив титана, помешала ему увидеть неизбежное. Безбожник Прометей, Прометей — пособник дьявола, странный бог, несущий опасность для себя самого, бог, который, восставая против верховного божества, отрицая его, уничтожает собственную божественную сущность! Отныне в любой момент мощь Прометея в сочетании с его слепотой могут привести к тому, что человек окажется всего лишь неудавшимся экспериментом.
Все, все хрупкое будущее человечества держится сегодня на корректной связи человека и космоса, на связи, которая была осмыслена, взвешена, выражена на средиземноморских берегах.
1973
I
Провансальский блеск
Если основной чертой Франции — и уникальной чертой — считается ее многообразие, если разнообразие климатов, ландшафтов, судеб делают ее бесподобной, то Прованс можно считать самой французской из провинций, способствующих этому изобилию.
Ибо Прованс, сосредоточивший или сочетающий в себе множество противоречий и контрастов, так же многообразен, как и сама Франция.
Нет на свете одного Прованса — их наберется целый десяток, и все они будут одинаково ласкать глаз, покорять умы, будить воспоминания; Прованс морской, городской, торговый; Прованс пасторальный; Прованс дикий, знойный, опаленный солнцем. Есть еще Прованс горный, в районе Диня и Барселонетты, тот самый, что каждую зиму укрывается снегами, которые, сходя по весне, обнажают тучные луга; тот самый, что каждую весну расстилает перед окнами Грасса гигантские цветочные ковры; и, наконец, тот самый, что сеет свои островки меж двух лазурных гладей — морской и небесной.
Какая же картина предстает в наших мыслях, наших воспоминаниях, наших мечтах прежде всего, когда, находясь вдали от Прованса, мы произносим его имя?
Может быть, платан, вросший в землю у светлого каменного порога среди порыжевших полей и отбрасывающий гигантскую теплую тень на черепичную кровлю и закрытые ставни? Или букет корабельных мачт, символ приключений и дальних странствий, покачивающийся у розового причала? Или же романская арка старинного аббатства, притихшего в безмолвии горной долины? Или роскошная вилла на мысу, стоящая по колено в муаровой сини? Или повисшая на штукатурке старого дома лоза, усыпанная бирюзой купоросных капель? Или лавандовое поле на лиловых склонах Люберона?
А может, прячущаяся в зеленой тени аллеи кариатида, выточенная Пюже[1], или солнечный блик, дрожащий на замшелой чаше фонтана в самом сердце Салона[2], или крепостной вал в Антибе, сжимающий в объятиях звездную ночь?
Прованс, воспетый Мистралем, чьи поистине гомеровские страсти и драмы наполняют пространство от Альпий до Монтаньета; хитроватый, ироничный, невозмутимый Прованс Доде — какой из них можно назвать настоящим? Прованс Паньоля — гортанный, грассирующий, наполняющий Старый Порт своим добродушным гневом; Прованс Жионо — чем выше к Лумарену и Маноску, тем напевнее становится его звучание, но и тем больше жестокости, даже безумия слышится в нем. Какой же из этих голосов правильнее?