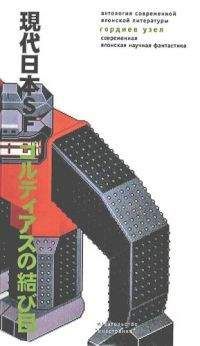Кадзуо Навата - Тигриное око (Современная японская историческая новелла)
— Вот тогда я и подумал… — вновь заговорил Кихэй после небольшой паузы. — И старик-управитель, и мой отец, и господин Дзусё, говорить-то они говорят, будто одно-два рё — деньги небольшие, но ведь семьи Китибэй уже нет на свете. А попроси Китибэй эти деньги пока еще жив был, нашлись бы люди, которые легко бы их одолжили ему? Я думаю, нет. Во всяком случае, те, что так рассуждают, наверняка бы не дали.
Хисаноскэ согласно кивнул.
Тогда-то Кихэй и придумал про дверцу. Известно, что чем беднее человек, тем он щепетильнее. Просить подаяние бедняку просто невыносимо. А вот получить немного денег в долг, не встречаясь ни с кем лично, без расписок и процентов, когда возникает в том насущная необходимость, никто из них, пожалуй, не отказался бы. Так рассудил Кихэй.
— А ящик я повесил уже после смерти отца, когда стал главой семьи, — продолжал он, — посоветовался со стариком-управителем дома Китибэй и для начала дал знать об этом ящике только людям, жившим на закоулках кварталов Коганэ и Ямабуки. И еще попросил брать деньги только в случае крайней нужды. Полгода никто не приходил, потом посетители появились… Старик-управитель считал, что возвращать никто не будет, — то же самое ведь сказали Фудзии и Вакидани: мол, взять-то возьмут, а вот возвращать вряд ли кто будет… И правда, первые года два ящик чаще пустел, чем наполнялся, и мне порой нелегко было докладывать туда недостающие деньги.
— Ты никогда не думал прекратить все это?
— Думал, — кивнул Кихэй, — потому что время от времени мне бывало тяжело. Но всегда в трудную минуту вспоминал я о юной дочке Китибэй, той девушке по имени Нао… размышлял о том, что у нее, у Нао, было на душе в ее смертный час.
Хисаноскэ отвел глаза.
«Так вот как сильна была его любовь», — все стало ему ясно.
— Это всегда меня и поддерживало, — продолжал Кихэй.
В самом деле, стоило подумать о погибшей девушке, и его собственные трудности казались ему не стоящими внимания. «Пока могу — не брошу», — думал он всякий раз в трудную минуту.
— Прошло время, и некоторые люди начали возвращать деньги, — сказал Кихэй. — Ящик теперь чаще полон, чем пуст. Бывает даже, что там денег больше, чем я положил.
— Ты победил, — проговорил Хисаноскэ, отвернувшись от него. — Победила твоя вера в то, что чем беднее человек, тем он честнее.
Кихэй взглянул на Хисаноскэ, — и его вдруг пронзила догадка. Всмотревшись в профиль Хисаноскэ — тот продолжал сидеть, отвернув лицо, — Кихэй воскликнул:
— Ах, вот оно что! Ты тоже все это время подкладывал деньги в ящик, верно?
— Да что ты, с какой стати?
— Не отрицай. О дверце знают только люди из окрестностей Коганэ-тё и Ямабуки-тё, а ты и там в замке недавно говорил… ах да, вот еще вспомнил… Однажды вечером в середине прошлого месяца от той дверцы в заднем заборе донесся шум потасовки, и кто-то крикнул: «Да как тебе не стыдно!» Тогда я не обратил внимания, но сейчас точно вспомнил — это был твой голос.
— Просто тогда явился этот Дзюдзиро, — смущенно проговорил Хисаноскэ. — Явился этот мерзавец и давай шарить в ящике…
— А ты пришел, чтобы положить денег.
— Ну я и взорвался, — сказал Хисаноскэ. — Не знаю, как он разузнал о ящике, но ему и ему подобным я и гроша бы не дал, вот я и схватил его, без раздумья, и отколотил хорошенько.
Кихэй низко опустил голову и тихо, шепотом, проговорил:
— Спасибо тебе.
— Долгий у нас с тобой разговор вышел, — сказал Хисаноскэ и поднялся. — Хочешь, вместе вернемся?
— Как ты думаешь, что решит ёриаи? — спросил Кихэй, прибирая стол.
— Не волнуйся, я возьму это на себя, — ответил Хисаноскэ. — Примерно понятно и кто положил кляузу в ящик для петиций. Слышишь — это уже понятно. Вот так-то, — кивнул он головой. — Это дело рук ростовщиков, которые ссужают деньги беднякам в окрестностях квартала Коганэ. Эти пройдохи жиреют на крови бедных, для них твоя дверца в заборе — злейший враг.
— Да что ты? — Кихэй удивленно раскрыл глаза. — Ну, от тебя ничто не скроется.
— Да нет. По правде сказать, я просто расспросил главу полицейской управы, — сказал Хисаноскэ с кривой улыбкой.
— Все так сложно. — Кихэй тяжело вздохнул. — Даже такое дело — и то непременно кому-то приносит новые заботы.
— Ну, пойдем по домам, — сказал Хисаноскэ.
Несколько дней спустя в доме Фудзии состоялась служба по покойному Дзусё, по случаю третьей годовщины его смерти, и Каё вместе с Мацуноскэ отправилась в буддийский храм. Кихэй, закончив работу в замке, пошел в дом Фудзии, чтобы возжечь ритуальные благовония.
Увидев его, Санробэй сказал:
— Похоже, дело с дверцей обойдется, — но особой радости на его лице видно не было… Каё, сказав, что боится, как бы Мацуноскэ не продуло холодным вечерним ветром, вернулась домой до захода солнца; Кихэй остался и провел вечер вместе с двумя десятками родственников и свойственников, собравшихся на поминовение души покойного.
Ночь лишь начиналась, но холод был такой, что казалось, уже выпал иней, с севера задул довольно сильный ветер. Ступая по световой дорожке от бумажного фонаря в руке слуги, Кихэй уже подходил к перекрестку квартала Утикура, как вдруг откуда-то сбоку вышел Дзюдзиро и окликнул его.
— Ты уж прости. Мне нужно поговорить с тобой наедине, — Дзюдзиро сделал знак слуге.
— Пойдем ко мне, — обратился Кихэй к Дзюдзиро.
— Нет, — покачал тот головой, — я спешу. Очень спешу.
Кихэй взял у слуги фонарь.
— Возвращайся домой без меня, — распорядился он.
8Когда они остались наедине, Дзюдзиро кашлянул и попросил одолжить ему пять рё.
— Меня заманили в игорный дом, — с дрожью в голосе проговорил Дзюдзиро. — Игра, конечно, была нечистая, я проиграл пятьдесят рё. Удалось выпросить у них отсрочку на полмесяца, но сегодняшний вечер — последний срок. Они ждут меня сейчас в квартале Такуми, у храма Симмё; если я не явлюсь вовремя, они грозятся пойти в усадьбу и все рассказать брату.
— Ну, а чем же тут помогут пять рё? — спросил Кихэй.
— Удеру… то есть убегу я, — ответил Дзюдзиро. Он тяжело дышал, и на холоде пар из его рта тут же становился белым. — Таких денег — пятьдесят рё — мне нипочем не достать, а про этих игроков известно, что они хоть убьют, да свое возьмут — значит, надо бежать, другого выхода нет.
— И эти люди ждут у храма Симмё?
— Слушай, прошу тебя, выручи в последний раз.
— Нет, лучше я попробую поговорить с ними, — сказал Кихэй. — Я не знаю, как там заведено в игорных домах, но думаю, если все объяснить им, можно будет как-то уладить дело.
— Нет! Ничего уже сделать нельзя, — проговорил Дзюдзиро, чуть не плача. — Партнером моим был игрок по имени Мирутоку, он преступник, вне закона, да к тому же сейчас в ярости — говорит, я обманул его с отсрочкой.
— Так или иначе, поговорим с ним — хуже не будет, — сказал Кихэй и двинулся с места. — Если он в самом деле такой человек, то и на краю света тебя отыщет. Не зря говорят — попытка не пытка.
Кихэй повернул назад и перешел широкую улицу. Дзюдзиро, продолжая твердить свое: «Ничего не выйдет, они и слушать не станут», — все же последовал за ним.
«Скорее всего, это ложь, — думал Кихэй. — Не иначе, он все это выдумал, чтобы занять пять рё». Однако у квартала Такуми Дзюдзиро вдруг притих и шел, прячась за спину Кихэй. Храм Симмё стоял на углу квартала Букэ, на небольшой его территории росли старые криптомерии, и сразу за каменной оградой был большой пруд. Подойдя к тории,[30] Кихэй уточнил у Дзюдзиро:
— Здесь?
Дзюдзиро кивнул, и Кихэй увидел, что того бьет крупная дрожь.
Кихэй вошел внутрь через ворота.
— Есть здесь кто-нибудь от Мирутоку? — закричал Кихэй. — Я пришел поговорить о деле Фудзии Дзюдзиро.
Тут же из тени криптомерии с правой стороны послышался голос:
— Прикончи его!
В ту же секунду выскочили четверо или пятеро мужчин, один из них внезапно налетел на Кихэй. Тот почувствовал боль, как будто по боку полоснули огнем, и застонал. Бумажный фонарь взмыл вверх, упал на землю и загорелся. Кихэй, держась за бок, упал на колени, лишившись сил.
— Подождите, — проговорил он глухо. — Подождите, я пришел поговорить с вами.
— Плохо дело! Пропали мы! Это же сам барин Такабаяси… Эй, кто-нибудь, быстро за лекарем! — Кихэй услышал этот вопль и потерял сознание.
Пришел врач, начал обрабатывать рану, и от боли Кихэй пришел в себя. Рядом он увидел Дзюдзиро и двух парнишек, один из них (он выглядел лет на семнадцать-восемнадцать), дрожа, шепотом повторял товарищу:
— Что я натворил, что же такое я натворил! И старшую сестру мою он облагодетельствовал, и мать выздоровела благодаря ему. Темнотища была — я не разглядел, да и мог ли подумать, что сам барин сюда пожалуют…