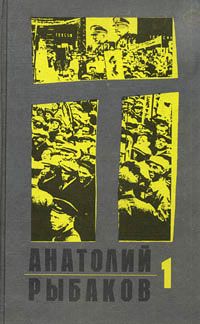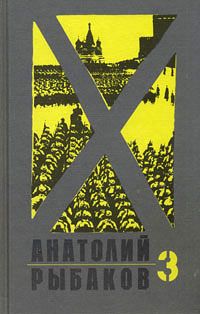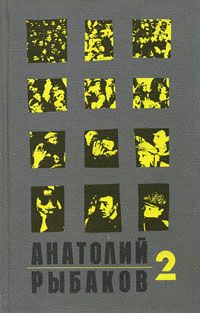Анатолий Рыбаков - Дети Арбата
— Предусмотрительный, — усмехнулась Варя. — Если в квартире случится кража, то на подозрении будут те, кто имел ключи, вот он вам их и вернул.
— Возможно, — согласилась Софья Александровна.
— А насчет вещей не беспокойтесь, я их заберу к себе, и, если он явится за ними или позвонит, скажите: Варя вещи забрала, обращайтесь к ней.
— Это правильно, твои вещи, ты их и носи.
— Там будет видно, — неопределенно ответила Варя, твердо решив завтра же передать вещи Косте через Левочку.
Она нежно обняла Софью Александровну.
— Я так перед вами виновата, вы столько натерпелись из-за меня.
— Что ты, деточка, выбрось из головы, не бойся его, такие, как он, сильны только со слабыми, храбры только с робкими.
— Это я знаю, — усмехнулась Варя, — вчера вечером он вызвал меня на улицу, грозился убить.
— Неужели?
— Да, да, я посмеялась над ним и ушла.
— Молодец, так и надо!
Варя и сама чувствовала себя молодцом, чувствовала свою силу, свою независимость. Да, да, наконец независимость! Она не подчинилась чужой воле, сумела переступить через всю эту грязь, пусть она оступилась, пусть ошиблась, но ведь на ошибках, в конце концов, и учатся. Во всем мире люди бьются за кусок хлеба, за место под солнцем, всюду приспосабливаются к обстоятельствам, важно остаться человеком, не позволять никому попирать свое достоинство. Этого она добилась и может этим гордиться.
— Вы пишете письмо Саше?
— Да, детка, Саше. Надо завтра же отправить, боюсь, не дойдет до распутицы. В октябре-ноябре, пока не встанет Ангара, там нет никакого сообщения. Я хочу, чтобы он обязательно получил письмо с последней почтой.
Варя представила себе Сашу, одиноко стоящего на берегу далекой сибирской реки, и ей тоже захотелось написать ему хотя бы два слова, доставить эту малую радость. Теперь, после всех испытаний, через которые она прошла и в которых выстояла, у нее снова стало легко на душе, поэтому и легко было написать Саше — самому лучшему человеку, которого она знает.
— Можно, я напишу ему пару слов?
— Ну, конечно, Варенька, — обрадовалась Софья Александровна, — он будет, счастлив, ведь ему никто, кроме меня, не пишет.
Варя взяла листок почтовой бумаги, подумала, обмакнула перо в чернильницу и написала:
«Здравствуй, Саша! Я сейчас у твоей мамы, пишем тебе письмо. У нас все хорошо, мама твоя здорова, я работаю в Моспроекте…»
Она подумала и дописала:
«…Как бы я хотела знать, что ты сейчас делаешь…»
16
Киров тяготился пребыванием в Сочи. Участие его в работе над учебником формальное: читал написанное референтами, одобрял одобренное Сталиным. Он понимал, что Сталин перекраивает историю не только для возвеличивания собственной личности, но и для оправдания своих прошлых, настоящих и будущих жестокостей. Однако возражать Киров не мог, давать бой по теоретическим вопросам бессмысленно, он не теоретик, не историк, у Сталина в распоряжении легион историков и теоретиков, способных доказать что угодно. В это лезть не надо. Но писать статьи о роли Сталина на Кавказе тоже не следует.
Пять лет Киров возглавлял азербайджанскую партийную организацию, досконально познакомился с ее историей, роль Сталина в Баку была ему хорошо известна, это была роль рядового профессионального революционера. Его особенная роль в Баку придумывается теперь, задним числом, как, впрочем, и многое другое. Он, Киров, тоже принимал в этом участие. Но то были общие, глобальные вопросы истории, утверждение о том, что Сталин — преемник Ленина, было необходимо партии, он, Киров, это утверждение принимал, на некоторые отступления от истины пришлось идти. Но все уже свершилось, борьба окончена, зачем Сталину лавры руководителя типографии «Нина»? Его, Кирова, руками хочет свести счеты с Енукидзе? В этом он участвовать не будет.
В Баку он знает каждую улицу, каждый дом, предприятие, буровую вышку; ничто в его представлении не связывалось тогда со Сталиным. Теперь весь Баку превращается в мемориал Сталину, живому Сталину. Улицы, районы, нефтепромыслы, институты, школы носят его имя. Даже открыт музей в Баиловской тюрьме, хотя никто не знает, в какой камере сидел Сталин. Спросить у него побоялись, мог в таком вопросе усмотреть намек на незначительность самого этого факта, мог подумать, что бакинцы вообще на уверены, нужен ли такой мемориал. Решили все сами, подобрали камеру, в которую легко было прорубить дверь снаружи, чтобы экскурсанты, осматривая ее, не заходили внутрь тюрьмы. Музей создали, водят экскурсии, хотя Сталин знает, что это фикция. Впрочем, Киров уже неоднократно замечал, они даже говорили об этом с Орджоникидзе: у Сталина стерлись грани между реальностью и легендой, когда дело касалось его прошлого.
Но для Кирова эти грани не стерлись и создавать новые легенды он не намерен. Сталин требует его присутствия в Сочи — обидная потеря времени. Его место в Ленинграде, предстоит отмена продуктовых карточек. Через четыре месяца граждане СССР смогут свободно покупать хлеб. Это событие доказывает жизнеспособность колхозного строя, созданного с неисчислимыми потерями, страданиями и жертвами. Такое мероприятие провалить нельзя, к нему надо тщательно готовиться, особенно в районах, не обеспеченных собственным хлебом, к ним принадлежит Ленинград. Вместо этого он бездельничает в Сочи.
Замечания по конспекту к учебнику истории Киров читал на пляже, не читал даже, а просматривал, откладывал листки и прижимал их камнем, чтобы не сдул ветер.
Огороженный двойной густой металлической сеткой, пляж был пустынен. За сеткой вправо и влево — запретная зона. У входа на пляж в будке с телефоном — часовой, другой расхаживал по асфальтированной дорожке вдоль наружной ограды. Пляжем пользовались только гости. Сталин в море не купался и на пляж не ходил. Персонал дач, обслуга, охрана купались в другом месте.
Только одного человека встречал здесь Киров — зубного врача, приехавшего из Москвы. С Кировым он держался почтительно, но без искательности, спокойно, доброжелательно. Этот человек с мягким голосом и сдержанными манерами отлично плавал, и видно было, что все здесь — море, солнце, песок на пляже — доставляет ему наслаждение. Киров всегда испытывал удовольствие, глядя, как радуются люди. Конечно, люди умели радоваться и тысячу лет назад и будут радоваться, пока на земле существует жизнь. Но все же радость, которую видел Киров в советских людях, он не мог не связывать с государством, которое он, Киров, представляет, со строем, который утверждал и утверждает, с новым обществом, которое строит. Улыбка, которую он видел, смех, который слышал, были наградой ему и его партии, оправдывали твердые, подчас суровые решения, которые приходилось принимать. Как марксист, он мыслил масштабно, и все же за тысячами и миллионами для него всегда существовал отдельный человек. Аудитория не была для него безликой. Поднимаясь на трибуну, он стремился ко взаимопониманию с каждым слушателем, может быть, в этом заключался секрет его ораторского искусства.
Он никогда не пренебрегал и личным общением, охотно вступал в любой разговор. И зубной врач тоже был ему интересен. Они говорили о вещах самых обыденных — о температуре воды, о сероводородных источниках, бьющих на дне моря, о воздействии мацестинских вод на человеческий организм. Кирову нравилось, что обо всем Липман говорил не как врач, а просто как собеседник, даже о зубах, предмете своей специальности, говорил простейшие вещи: какая зубная щетка лучше — большая или маленькая, чем предпочтительно полоскать зубы. Но ни разу Липман не сказал, когоон лечит, имя Сталина не упомянул ни разу.
— Мацеста делает чудеса, — говорил Липман, — наш сосед по квартире был совершенным инвалидом, ходить не мог, а после Мацесты бегает, как восемнадцатилетний.
— У вас хорошая квартира?
— Как вам сказать… Приличная комната в коммунальной квартире, девятнадцать метров, на Второй Мещанской — недалеко от центра, собственный телефон в комнате. Соседи, правда, недовольны, требуют перенести телефон в коридор, я не против — пусть люди пользуются, но возражает Санупр Кремля. Санупр этот телефон поставил, по нему Санупр вызывает меня к пациенту.
Киров знал, что кремлевских врачей не вызывают, а привозят к их высоким пациентам. И о том, к кому именно везут, не говорят. Орджоникидзе смеялся: «Понимаешь, везут ко мне моего врача, но моей фамилии не называют. А врач все равно знает: приехал за ним Иванов, значит, ко мне. Приехал Петров, значит, к Куйбышеву. Вот в такие игры играем…»
Подул ветер, на море появились барашки.
— Медуз много у берега, значит, к шторму, — сказал Киров.
Так они перебрасывались фразами, лежа на песке, плывя в море или обтираясь после купания. Врач видел листки, лежавшие рядом с Кировым, не хотел мешать, держался деликатно.
Но Киров читал «Замечания», почти не вникая в их смысл. В какую сторону совершается пересмотр истории, ясно и так, подробности уже не имели значения. Он думал о Сталине. В последние годы он вообще много о нем думал. Но в Ленинграде мысли эти заслонялись работой. Здесь работы не было, был Сталин. Киров встречался с ник каждый день и думал о нем неотступно.