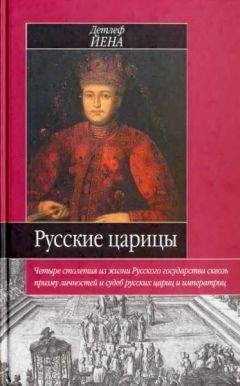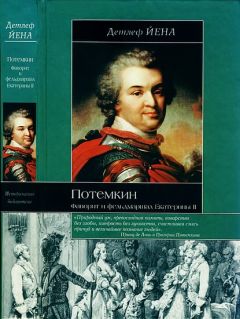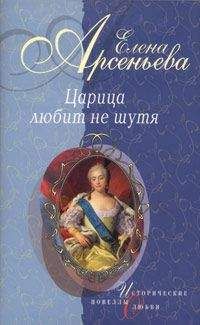Владимир КОРОТКЕВИЧ - Колосья под серпом твоим
Петербург спал. Под дугой мостика дремала гулкая темень и черная вода. Они шли втроем и молчали. Далеко-далеко друг от друга горели фонари.
Поднимался ветер, – видимо, снова на дождь.
Поэт шагал между друзьями, молчаливый и немного мрачный.
– У вас на Днепре сады?
– Сады, – ответил Алесь.
– И у нас сады.
– Я знаю. Мой дед рассказывал…
– Откуда знал?
– Несколько лет назад мне попала в руки рукопись вашего «Великого льоха». Ты, Кастусь, может, не читал, там одна душа вынуждена вечно летать.
– Какую имеешь в виду? – спросил поэт.
– Душу девочки, что увидела на Днепре золотую галеру царицы и улыбнулась ей. И вот мучается, пока не раскопают великий склеп.
Шевченко смотрел на него настороженно.
– На этой галере плыл мой дед.
– Почему?
– Царицу связывают с именем моего прадеда. Когда первый раз ехала в Могилев… и потом в Крым.
– Довольно неприятно.
– Я не оправдываюсь, – вскинул голову Алесь. – Прадед отказался оставить Днепр, хотя она его и звала с собой…
– Ты не обращай на это внимания, хлопче, – с легкой тенью смущения сказал Шевченко. – И на «льох» не обращай. Я тогда был молод. Жесток.
– Вы и теперь такой, – упрямо сказал Кастусь. – Иному вас не научили, батько. И хорошо.
– Ты князь? – спросил поэт у Алеся.
– Да.
– Ну вот. А я бывший крепостной. Но что из того? Мы идем рядом, и ты друг Зигмунта и пишешь такие стихи. Полагаю, наши счеты за золотую галеру окончены. А?
– Они давно окончены. Мой дед враждовал со всем этим дерьмом еще до моего рождения. Полагаю, и до вашего. Он, кстати, знает ваши стихи.
– И что он говорит? – улыбнулся Шевченко.
– Сказал: «Я б этого хохла не в солдаты, а министром просвещения вместо дурака Уварова».
Все рассмеялись.
– Ну, мы бы просветили, – улыбался поэт в седые усы. – Ты, правда, не мучайся, хлопче, за ту галеру. Идешь той же дорогой, что и люди правды, любишь несчастный свой край, служишь ему, а остальное – дело десятое.
Начался дождь. Тарас шел, искоса поглядывая на юношей. Вышли к Неве.
– Хлопцы, – сказал вдруг поэт, – вы видите, что там?
На том берегу, под аркой самого страшного здания в империи, словно глаза, сверкали два красных фонаря, отражаясь в воде.
– Вот, – сказал Шевченко. – Глаза под архангельской аркой. Я вас к трусости не призываю. Но вы все же как только можно берегитесь. Чтоб больше успеть. У вас ведь даже хуже, чем у нас. И потому старайтесь подольше не попадать в их руки. Я вот попал и загубил жизнь. Мне сорок четыре, а жить осталось мало. Считанные годы был на свободе. Да и то – разве это свобода? Жизни конец, а не сделал ничего.
– Батько, – сказал Кастусь с укором.
– Это правда, сынок. К сожалению, правда.
– Мы не собираемся вас утешать, – понизил голос Кастусь, – а только… гибнет народ, если в начале его дороги не появится такой, как вы, без компромиссов. Словом, вы знаете, нам ни к чему говорить вам неправду. Вы сделали много, хотя, возможно, меньше, чем могли б… Однако же та проклятая солдатчина, она ведь стоит ваших стихов! Она ведь каждого, кто не пошел ради родины на все, заставит захлебнуться от стыда.
– Вы думаете, вы конец? – спросил Алесь. – Вы начало. Со временем мириады людей сольются в любви к вам, потому что вы нигде не уступали, потому что дело ваше благородное, потому что такой любви, как ваша, еще поискать на земле. Такой любви, когда один человек спасает весь народ.
Дождь шел улицами и площадями города.
– Вам жаль нас, – сказал Алесь. – Вы показываете нам ту арку. А сами вы думаете о том же, что и раньше… Да как вам могло показаться, что мы хотим другой дороги?! Мы мечтаем прожить всю жизнь, как вы, чтоб даже не только отстрадать за свою любовь, но и пойти еще дальше… умереть за нее. Вы думаете, они нас испугают своими цепями? Чепуха!
VIII
Огромная аудитория университета взорвалась смехом. Немного подслеповатый, еще совсем не старый Платон Рунин решил, что это результат его очередной шутки, и с наслаждение повторил ее:
– Так они и сказали, келарь Арсений, скарбничий Снетогорского монастыря Иона и игумен Мартирий. Враги одолевают, лезут, а они: «Не бойтесь, православные! Матерь божья идет на помощь!» Разве вы не видите в этом трогательного простодушия, несгибаемой веры и богоносности, столь свойственных славянам? Единственная душа в мире осталась не развращенной идеями гнилой демократии и уродливыми взглядами на одинаковость людей – не перед богом, нет, а здесь, на земле! Это душа славянская. Скажите, разве есть в мире еще что-то, кроме этой души, разве есть еще что-то способное противостоять грязным потокам, что разливаются по земле?… Мутным волнам мусульманского, галльского, австрийского, польского, жидовского моря? Нет!.. «Не бойтесь, православные! Матерь божья идет на помощь!»
Аудитория снова одобрительно зашумела. Рунин посчитал, что нашел ключ к душе большинства студентов. Обычно полупустая, аудитория сегодня не имела ни одного свободного места. Профессор смотрел на бесконечный амфитеатр и видел, как сквозь вуаль, розовые пятна лиц.
…Хохот катился пока еще робкими волнами. Студенты наконец начали понимать, почему сегодня по бесконечным коридорам университета ходили три парня с подозрительно спокойными лицами и шептали: «На лекцию Рунина… На лекцию Рунина…» У двери в маленькую комнатку, что выше скамеек, на антресолях стоял студент, прикрывая дверь спиной. Эта четверка что-то задумала и смогла, по-видимому, сохранить тайну, потому что надзиратели даже не заходили в непривычно набитую аудиторию.
Из любопытства пришли студенты и с других факультетов. Ожидали – и не ошиблись в своем ожидании.
Недавно из-за Рунина выгнали из университета троих студентов – русского и двух поляков, – выдав им волчий билет. Выгнали за глупость, за обычное озорство. Повернули дело так, как будто хлопцы богохульствовали.
– Традиционность и благородный консерватизм верований, обычаев, одежды, психики, способов вести хозяйство… даже таких, казалось, мелочей, как кухня и быт, – вот что служит для познания славянина. И потому славяне от Лабы до Черногории, от Бауцена до Камчатки должны слиться в один народ под властью сиятельного дома Романовых.
Аудитория ошеломленно утихла. Рунин решил, что студентов поразила новизна этой давно сгнившей идеи.
– Так вот… Славянский консерватизм есть самое благородное, трогательное и приятное явление на земле…
Такого молчания, которое воцарилось после этих слов, наверно, не бывало в здании «двенадцати коллегий»[136] с самого дня его постройки. Все ряды амфитеатра смотрели в сторону двери.
Удивленно раскрытые рты, круглые глаза.
Из двери появились «консервативные славяне». Их было двое, и консервативными они были до умиления.
В вышитых посконных рубахах, подпоясанных ткаными поясами, в сермяжных порточках и в новых, белюсеньких онучах, светлые ликами и волосами, они спускались по ступенькам на средину амфитеатра, к пяти свободным местам, которые, очевидно, специально были не заняты, и на их ногах победно скрипели пахучие, новенькие лубяные лапти.
На сгибе локтей у них висели зеленые ивовые лукошки, на поясах – гребни, кресива и дощечки, которыми в глухих мазурских деревнях чешут голову.
Сероокие, светловолосые, иконописные, с вишневыми губами и неестественно розовыми щеками, они очень напоминали опереточных пастушков.
– …Рождение панславистской идеи назрело, – метал пламенные слова подслеповатый Рунин. – Дальновидность этой идеи и расширение ее свидетельствуют о том, что славянам давно время занять первое среди всех место, надлежащее место…
«Славяне» наконец заняли «надлежащее место», широко рассевшись на свободной скамье.
Алесь и Грима, словно по команде, открыли крышки лукошек, собираясь, наверно, «всасывать мудрость».
– …разольется вместо всего этого поток нашей традиционности, стойкого монархизма и православной веры. Воссоединенные славяне возьмут в свои руки наследие дедов – Малую Азию, Царьград и проливы. На святой Софии снова встанут кресты, а на воротах засверкает Олегов щит. Патриархи Антиохии и других… городов поведут дальше дела христианства на своих землях, Палестина наконец получит законного хозяина. Разве не глупость, в самом деле, что гроб господень находится в руках язычников?! Монастыри с мудрыми Несторами и Пименами вместо капищ…
– Смотри, – шепнул кто-то.
«Славяне» достали из лукошек «свитки пергамента», склеенные, видимо, из бумажных листков, кожаные чернильницы и гусиные перья, возвели очи к небу и, пробормотав «молитву», начали покрывать бумагу затейливой вязью, не забывая о красной краске для заглавных букв. Хартии с тихим шелестом сползали на пол.