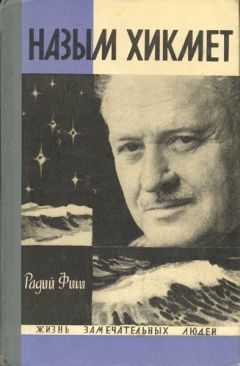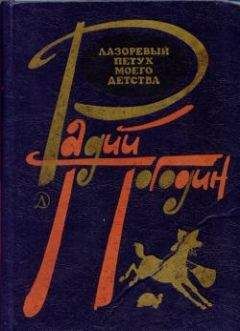Радий Фиш - Спящие пробудитесь
У входа в юрту возник какой-то шум, за звуками саза и бубна султан, поглощенный созерцанием, его не слышал. Полог отлетел, рабыни, взвизгнув, раздались. Музыка оборвалась. Гречанка замерла. Ее тонкая высокая шея оскорбленно выпрямилась.
Посреди шатра, держась за рукоять полуобнаженной сабли, стоял Баязид-паша. Явление его было так неуместно, так внезапно, что Мехмед Челеби не успел ни испугаться, ни разгневаться. Кому, как не визирю, было знать, что вторженье к государю в столь поздний час, когда он развлекается, чревато по меньшей мере немилостью.
Задвинув саблю в ножны, Баязид пал ниц, подполз к султану, трижды поцеловал край его одежды.
— Что сие значит? Как ты смел?
— Не обессудь, мой государь! Весть пала срочная и важная!
— Говори!
Рабыни, музыкантши, служанки испарились. Гречанка же осталась, как стояла, недвижным воплощеньем возмущенной гордости. Здесь она была хозяйкой.
Визирь молчал. Слышно было, как потрескивают угли в мангалах. Гречанка знала свою власть над повелителем, но, верно, в этот раз не рассчитала ее границ.
Султан ударил в ладоши. Янычары охраны, ворвавшиеся было вслед за Баязидом-пашой, снова встали у полога. Мехмед Челеби махнул рукой.
Мгновенно переменился вид наложницы. С поклоном самоотверженья и покорности она попятилась к выходу и в сопровожденье стражи вышла вон.
— Говори же!
— Мой государь! Опальный шейх Бедреддин Махмуд созвал в Делиормане дервишей, подлый сельский люд и вместе с ними вышел из лесу к Загоре…
— И с этим ты осмелился явиться ко мне сюда, визирь?!
От узких миндалевидных глаз султана остались только щелки. Крылья носа, длинного, с горбинкой, как у всех Османов, дрогнули.
— Нет, повелитель мой, — с вопросом. Но прежде отложи, ради Аллаха, свой гнев, перемени его на милость к рабу, не знающему иной корысти, кроме блага государя.
Гнев? В нем, кажется, и вправду закипал тот знаменитый гнев Османов, который столько причинил вреда, и не одним лишь недругам. Он, этот гнев, сгубил его отца, султана Баязида и бешеного братца Мусу. Пожалуй, визирь прав. Его советы обычно были к месту. Что ж, можно выслушать его и в этот раз. Гречанка никуда не денется.
Султан дал знак: мол, продолжай. И Баязид-паша продолжил:
— С приходом Бедреддина поднялся весь черный люд, все население Загоры. Собравшись силами, готовятся к походу на столицу.
— Откуда ведомо?
— От наших беев в мятежном стане…
— С ним наши беи?
— Кое-кто. Поддались злонамеренным речам. Сам знаешь, государь, у Бедреддина они заманчивы, как сладостное пение сирены. Но вовремя опамятовались, увидев, что до добра он их не доведет…
— Так в чем же твой вопрос, визирь?
— Прикажет ли мой повелитель начать теперь осаду Салоник, чтобы заполучить лже-Мустафу, или заняться Бедреддином?
Мехмед Челеби глубокомысленно огладил бороду.
После довольно долгого молчания заключил:
— По-твоему, выходит, дело снова приняло серьезный оборот?
— Склоняю голову перед прозорливостью твоей, мой господин.
Мехмед Челеби приосанился. Тоном, не допускающим возражений, повелел:
— Нам угодно принять решение на совете.
— Совет весь в сборе, повелитель. Прикажешь звать к тебе в шатер?..
На совет, как положено, сошлись оба визиря и старший воевода. Им был Эвренос-бей, властитель ближайшего османского удела Серез. Эвреносу было под девяносто, туг на ухо, но быстр умом, старик еще отменно держался в седле. Само присутствие его здесь в поздний час могло служить порукой неотложности решения.
Первым держал слово Баязид-паша.
— По мне, не медля часом, всей силой надобно ударить по Бедреддину с голытьбой и тем покончить дело, успешно начатое наследником твоим, мой господин, в Айдыне, а державу избавить от грозы.
— Ты сам сказал, визирь, про голытьбу. Что за гроза в ней? Неужто не из тучи, из навозной кучи грянет гром?
— Не в голытьбе гроза, мой господин, а в Бедреддине. Распятый бунтовщик Бёрклюдже Мустафа, повешенный в Манисе Ху Кемаль подняли голову по его наущенью.
— Откуда ведомо?
— Позволь, мой господин, тебе представить самовидца.
Султан разрешающе кивнул. Визирь дал знак. В шатер вошел медвежеподобный, заросший по уши бородой пожилой воин в папахе, обернутой чалмою. Уткнулся носом в ковер.
— Скажи-ка государю все, что знаешь! — приказал визирь.
Воин сел на колени. Сложил руки на животе.
— Смилуйся, мой государь. Шея моя — тоньше волоса. Прослышали мы от родича своего Абдюлкадира-ага: Бедреддин явился близ Силистры. И вместе с Юсуфом-беем поспешили ему навстречу. Клянусь и тем и этим светом, мой государь, не ведали ни сном ни духом, что он беглец. А что Бёрклюдже — предатель нашей веры святой, что повязанный с жидами Ху Кемаль — его наущенец — помыслить не могли. А как узнали, решили довести до слуха твоего, мой государь!
С этими словами он сунул ладонь за кушак, вытащил свернутый в тонкую трубку свиток и, прижав правую руку к сердцу, левой протянул ее в сторону султана.
Султан меж тем узнал его. То был видный в воинском кругу сипахи, по имени Азиз-алп. Служил и Сулейману, и Мусе, присягнул и ему, Мехмеду Челеби. Не по неведению, нет, пошел он к Бедреддину. И предавал его сейчас лишь потому, что испугался за свою душу, когда узнал о пораженье еретиков в Айдыне.
— Что это? — спросил Мехмед Челеби, указывая глазами на протянутый свиток.
— Подметное письмо, мой господин, — опередил сипахи Баязид-паша. — Одно из множества, в которых шейх Бедреддин оповещает, что Бёрклюдже Мустафа и Ху Кемаль, его заместники, восстали по его приказу, и созывает в свой стан всех, кто не имеет земли, кто жаждет власти и свободы от запретов нашей веры. Как я тебе докладывал, мой повелитель.
— А где же Юсуф-бей?
— Остался, мой государь, — откликнулся сипахи, все так же держа свиток в протянутой руке. — За ним глядят во все глаза. Надеются, что он из сброда соберет им дружину конной рати. Я сам ушел лишь потому, что Бедреддин отправил меня в столицу с ближайшим соучастником своим Ахи Махмудом. Его — поднимать против тебя воинов ахи, меня — склонять к измене твоих сипахи, мой государь.
Тут только до султана дошло, как он был беспечен. И явился страх: если бы не визирь… А вслед за страхом — гнев. Медленно, будто подыскивая слова, он спросил:
— Сдается, воин, ты с Юсуфом-беем принадлежишь к тому же роду, что и Бедреддин?
— К несчастию, мой государь…
— Неблагодарность к вскормившему тебя — гнуснейший из пороков!
Голос у султана осип от сдерживаемой ярости. Азиз-алп услышал над своей головой шелест крыльев ангела смерти Азраила. Старик Эвренос-бей, до сей поры внимавший разговору как бы сквозь дремоту, услышал этот шелест тоже. И очнулся.
Азиз-алп прижал руку со свитком к груди крест-накрест с правой, склонился до земли.
— Смилуйся, государь! Я лишь хотел сказать: несчастье, что из рода благодетеля моего вышел такой злодей, как Бедреддин. Мой грех: еще в Иерусалиме тридцать лет назад я видел, как он пил вино и предавался занятиям, греховным для правоверного, а для муллы подавно. По молодости, я не донес об этом, мол, обойдется. Прости мой грех, султан, не губи душу раба твоего!..
Глаза Мехмеда Челеби снова сузились. Губы искривились. Вот-вот сорвется роковое слово.
И сорвалось бы, не опереди его Эвренос-бей:
— Прощенье, воин, надо заслужить!
— Я заслужу, мой государь, верой клянусь!
Султан почуял вдруг, как гнев его садится, остывает, сменясь чувством презрения и жалости. Махнул рукой: прочь, мол.
Сипахи не подымался с колен.
— Ступай же, Азиз-алп, — сказал Эвренос-бей. — Наш государь решит, чем можешь ты заслужить прощенье.
Сипахи, пятясь, вышел.
Мехмед Челеби потер застывшие пальцы, зябко повел плечами. Мангалы были полны углей, а в государевом шатре прохладно. Как-никак, а осень на носу.
Ни на кого не глядя, сказал:
— Мы с мыслью Баязида-паши согласны. Но как бросить войско на Загору против Бедреддина, оставив за спиной лже-Мустафу?
— Что Мустафа, мой господин? — немедля отозвался Баязид-паша. — С ним только войско, да и то худое. А с войском, с помощью Аллаха, мы совладеть всегда сумеем — не впервой. Иное дело Бедреддин. Он своим словом может свести с ума не только население Загоры — народы. С народом как воевать?
— Как воевал в Айдыне ты, визирь!
— Вот потому и говорю, что воевал. Еще немного, и не мятежника, а голову вот эту прислали бы тебе, мой государь!
— Твой визирь прав, мой государь, — вмешался Эвренос-бей. — И ратников своих, и харч, и достояние, и силу мы черпаем в покорности народа. Держать его в узде всего важнее. Но я разделяю твои сомненья, мой господин. Не предложить ли прежде за голову лже-Мустафы хороший куш? Старый император Мануил нуждается в деньгах.