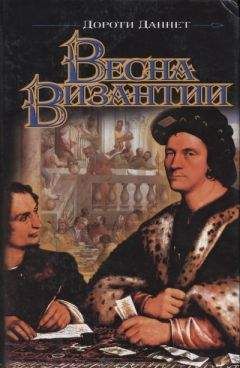Садриддин Айни - Рабы
«Бедный Хасан! — думала она. — Вон какой урожай собираю я с твоего посева. А тебя чуть не засудили за него. — Она шла среди густых здоровых кустов, словно среди друзей. — Бедный Хасан! Ты виноват в том, что после того посева тут пришлось немало поработать. Немало, а зато теперь здесь кусты лучше, чем везде. Нет, ты не виноват, Хасан… А культиватор?»
Она вывалила хлопок из передника в мешок, крепче завернула рукава голубого сарпинкового платья и снова принялась за работу.
Ее крепкие, сильные, быстрые руки сверкали сквозь темные листья, быстро отрываясь от желтых коробочек к белому переднику.
Они мелькали равномерно, в лад с биением сердца. И в этой ее работе была пленительная красота, на которую никто не смотрел и которой сама Фатима не замечала. Она работала, словно вела какой-то замечательный, четкий, быстрый танец. Но мысли ее летали, как ласточки, далеко отсюда, вокруг Хасана.
Она не забывала ни его голоса, ни его слов, ни дней и вечеров, проведенных с ним, ни его мечтаний, ни сильного тела, ни крепких рук. Все в нем дорого было ей. И лицо, едва узнавшее бритву, и смуглая кожа, и его твердая воля, и мягкий голос, и серьезная, вдумчивая речь.
«Нет, Хасан, ты не виноват. Хасан, я в твою комсомольскую совесть верю. Совесть твоя чиста. По своей воле ты бы не принес нам вреда».
Передник наполнился, и опять она, прервав свое раздумье, переложила хлопок из передника в мешок.
А когда снова пошла между кустов, мысли ее вернулись к Хасану.
«Но как такое твердое сердце растаяло перед ленивой куклой? Чем она его пленила? Ну чем? Что нашли его темные глаза в ее бесстрастном, недовольном, бескровном лице?
Ах, Хасан! Как легко ты забыл время, когда мы вместе росли, вместе играли, вместе собирали первые урожаи хлопка на новых землях, на берегу Джилвана. И песни мои забыл. А мы ведь их вместе пели. И я гордилась, что у меня такой друг. Я пела:
В саду у меня цветок цветет.
На руке у меня соловей поет.
А ты, Хасан, забыл, как отвечал мне:
Есть цветок у меня, краше нет вокруг.
Краше всех цветов у меня есть друг.
Пара сильных рук есть сорвать цветок,
Есть друга обнять пара сильных рук.
Эх, Хасан, улетел соловей из моего сада, и цветок вянет, и сад мой поник».
И стало ей так жаль себя, словно огонь, долго тлевший внутри, вдруг вспыхнул, охватывая ее всю. И она негромко запела тоскливую старинную песню:
Мою розу унес беспощадный враг.
Соловья злой коршун настиг в кустах.
Беспечный садовник мой сад не хранил:
Погиб соловей и цветок зачах.
С этой песней она понесла хлопок к мешку.
— Я люблю песни. А особенно когда их ты поешь. И голос твой люблю. Но не нравится мне, что поешь ты такую тоскливую песню. От нее плакать хочется.
Фатима, вздрогнув, прервала песню от этого голоса: на нее, ласково и печально улыбаясь, смотрел Хасан.
Она торопливо смахнула слезинки, навеянные песней, и ответила:
— Куда уж тебе это слушать. Тебе по душе веселые да плясовые.
— В наше время не о чем тосковать. К чему нашей эпохе песни рабских времен, песни эмирских времен? Ты вон как работаешь, всем на радость, и песню надо радостную петь.
— Пустые слова, — ответила Фатима и отвернулась, чтобы ссыпать хлопок из передника в мешок.
— Ну давай хоть поздороваемся! — протянул ей руку Хасан.
— Тебе нужна нежная рука, Хасан, я у меня пальцы совсем огрубели. Не смею тебе их подавать.
И не дав ему руки, она пошла к тем кустам, откуда принесла свой сбор.
Не находя слов, чтоб ответить ей на упрек, он молча прошел за ней следом и сел невдалеке от нее.
— Слушай, давай поговорим по душам.
Она не подняла головы. Руки ее быстро, привычно, ритмично, легко касались пышно расцветших белых роз хлопчатника.
— Душевные дела прошли. Теперь ни к чему ни разговоры, ни шутки.
— Фатима!
Она молчала. Руки быстро, чуть нарушая прежний ритм, собирали урожай.
— Фатима!
Она молча продолжала работать.
— Слушай, Фатима! Прости меня, Фатима! Я виноват. Руки ее дрогнули и остановились. Она обернулась быстро и гневно.
— Хасан! Хорошо, поговорим по душам. Такие слова стыдно слушать комсомолке от комсомольца. Такие слова говори кулацким дочкам.
— Я ошибся, Фатима. И хочу исправить ошибку. Он опустил покрасневшее тоскливое лицо:
— Мы должны исправлять ошибки, когда их замечаем.
— Да! Не знаю. А может быть, ты попросишь помочь тебе в каком-нибудь… преступлении?
— Помочь прошу, но не в преступлении, а…
— Э, Фатима! Что ж ты ничего не ешь до сих пор?
Оба, обернувшись на голос, увидели Мухаббат, стоявшую возле нетронутого свертка с виноградом и хлебом.
— Не хотелось есть. Хотелось свое обещание выполнить, собрать весь хлопок на этом участке.
Мухаббат подошла и только тут увидела Хасана, сидевшего в тени раскидистых кустов.
— Ты, Хасан?.. Ты еще здесь? Видел их?
— Видел.
— Обоих вместе?
— Обоих.
— Что же ты им сказал?
— Они меня не видели. Я хотел сперва их послушать. Прополз в кустах и лег почти рядом.
— Что ж они говорили?
— Многое. Такое, что мне и в голову не могло прийти.
— Что ж такое?
— Когда придет время, вам с Фатимой первым скажу, а пока нельзя: их разговор касается всех моих несчастий.
— А Кулмурад еще не закончил следствие?
— Кулмурад сообщил свои выводы и уехал.
— Какие выводы?
— Для меня нежелательные, но желательные для Шашмакула и для Хамдама-формы.
Фатима услышала этот ответ, и руки у нее опустились. Мухаббат тоже побледнела.
— Ты ясней говори.
— Он считает, что я виноват в неправильной работе сеялки на севе и в пропаже культиватора. Вопрос обо мне ставят на общем колхозном собрании. Будут обсуждать в показательном порядке. А потом, дело ясное, исключат из колхоза и отдадут под суд.
— Не может быть… — прошептала удрученная Фатима и задумчиво, привычно протянула руки к белым прядям, свисавшим с куста.
— Такого вывода никто не ожидал! — удивилась Мухаббат. — А когда будет общее собрание?
— Шашмакул торопится. Настаивал, чтоб собрали дня через два-три. Но дядя Сафар, Юлдашев и многие из коммунистов не согласились. Решили отложить до конца сбора. Устроить собрание после Октябрьских праздников. Дядя Сафар сказал: «Сперва отпразднуем шестнадцатую годовщину Октября и проведем слет ударников хлопковых полей, а тогда рассмотрим твое дело. Мы выполним к тому времени план на сто процентов, а до тех пор надо работать спокойно и не отвлекаться от нашей основной цели».
— Ладно. Я помешала вам. Я пойду! — сказала Мухаббат.
— Да нет, не такой у нас разговор, чтобы вы ему могли помешать. Давно уж Фатима на меня сердита. Я послушал тех двоих и пришел к Фатиме сказать, что ошибся. Пришел прощения просить, а она еще больше рассердилась. Если бы вы не пришли, она изругала б меня еще крепче.
Фатима взволновалась:
— Ты ошибся, если принял мои ответы за брань. У меня нет прав ругать каждого человека.
— Она имеет право сердиться на тебя. Сначала ты причинил ей большую боль. А эта боль не проходит от пустых извинений. Ведь в песне-то, помнишь, как поют?
Сердце легко поранить, да трудно рану лечить.
Чашку разбить недолго, да долго ее чинить.
Но легче исправить разбитую чашку,
Чем снова поймать упорхнувшую пташку.
Когда запоешь, все складней получается. Но слова-то в песне те же, — улыбнулась Мухаббат, уходя.