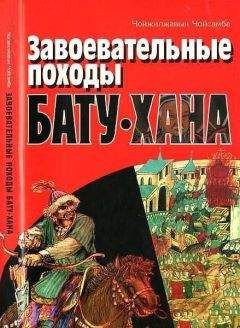Лев Никулин - России верные сыны
Так неожиданно их разговор от сердечных дел перешел к делам политическим, и, только когда Можайский стал прощаться. Анеля сказала:
— Помните: вас любят. Всегда, вечно, только вас… Помните это.
Три дня спустя пришла почта, и в ней были долгожданные вести от Федора Волгина. В ней было и письмо — небольшой листок, исписанный тонким почерком.
«Александр Платонович, — писала Катенька, — цепь несчастий разлучила нас навсегда. Вы никогда не спрашивали меня, как случилось, что я стала женой француза. Однажды мы увиделись мельком в Париже, и вы холодно поклонились мне и отвернулись. Я видела вас еще раз, но вы не видели меня или сделали вид, что не видите. Потом встреча в Грабнике. И опять вы ни о чем не спросили меня, я тоже молчала. Сейчас я могла бы тоже промолчать, но сердце велит мне: «Скажи все, о чем думала все эти годы, ночи и дни».
Вы оставили меня шестнадцатилетней. В доме тетки я росла сиротой. Не хочу дурно говорить о покойнице, но вы сами знаете, сколько горя и слез принесла она своим дворовым, своим крепостным людям. И сколько слез пролила я от незаслуженных обид, унижений, придирок. Я ждала вас, я помнила наши клятвы, но в Петербурге среди тех, кто сложил голову под Фридландом, назвали и ваше имя. Я едва не помешалась от горя. Что ж сказать далее? В посольстве Коленкура был Лярош. Он увидел меня и был со мной ласков и добр. Когда настала пора возвращаться в Святое, к тетке, предстала предо мной вся моя жизнь — обиды, унижения. Лярош ездил к моим кузинам чуть не каждый день, они жалели меня. В день, когда Лярош просил моей руки, они радовались за меня, зная мою горькую участь. И я, семнадцатилетняя, решилась на этот брак. Русская девушка стала женой француза… Подумайте, Александр, как я росла. В доме тетки почти не звучала русская речь. Моей тетушке Париж был милее Москвы. Я, русская девушка, думала по-французски, дворовые девушки выучили меня русскому языку, и если я, Катрин Лярош, осталась русской — это потому, что никогда не умолкал во мне голос родины…
Помню, Лярош показал мне медаль, выбитую в Париже по случаю занятия французами Москвы. Это было еще до Бородинской битвы, когда Москва была еще в наших руках… Я написала «наших», да наших, никогда я не считала себя француженкой! Лярош показал мне медаль, на одной стороне лик Наполеона и надпись «Император-король», на другой башни Кремля и дата «Сентябрь восемьсот двенадцатого года». У меня сжалось сердце, и я бросила медаль на землю. Август не сказал ни слова и вышел. Он понимал мои чувства.
Мы встретились с вами в Грабнике, но я была уже не та, что в Васенках, и не та я была, от которой вы отвернулись в Париже.
Я жила в невиданной ранее роскоши, когда Август Лярош, муж мой…»
(Здесь Можайский вздрогнул. Он почувствовал боль оттого, что она его, Ляроша, даже мертвого назвала мужем.)
«…муж мой состоял в посольстве Коленкура. Я, выросшая почти что в бедности, жившая после смерти отца в воспитанницах у скупой, хоть и богатой благодетельницы, увидела пиршества, где груша была выращена в оранжереях и стоила чуть не сто рублей. Я видела безумную роскошь, балы, празднества, фейерверки, когда в огне сгорали такие деньги, что могли бы годы кормить бедное семейство… И все это богатство и роскошь не ослепили меня, я видела, что Россия господская одно, а Россия сельская другое. Скоро и мне пришлось пережить страдания в воздаянье за ту жизнь, которой я жила три года. Семнадцать дней отступления из Москвы были для меня постоянными предсмертными муками. Каждый час смерть являлась передо мной, и каждое утро я говорила себе: не доживу до вечера, но какой смертью умру — не знаю… Ужасный человек, называвший себя императором французов, увлек с собой сотни тысяч людей, они вторглись в мое отечество, причинили ему неслыханные бедствия, они несли с собой смерть и несчастье, но возмездие было ужасно. Какое страшное зрелище… Большая Смоленская дорога — нескончаемое кладбище — трупы людей, взорванные пороховые ящики, снова трупы, в иных еще теплилась жизнь. Вокруг нас изможденные, закопченные дымом бивуаков лица, красные воспаленные глаза… Ноги окутаны тряпками, на плечах рваные, жалкие шубы. Люди разрывают зубами внутренности павших лошадей… А вокруг мертвая снежная равнина. Одни трубы торчат, избы сожжены, разобраны на топливо. Зимнее, багряное солнце в облаках, густые хлопья снега, все закрыто пеленой, небо и земля слились. Бредут, шатаясь, солдаты, падают в рытвины и остаются в этих снежных могилах. Я видела, как прощались навеки отец с сыном, брат с братом, и снег заметал их трупы у погасшего костра… О, как я хотела рассказать вам об этом крестном пути моем там, в Грабнике, как самому близкому на земле! Но вы были, как стена, как камень… Теперь о вашем письме. Я много думала о нем. Если в вас говорит жалость, жалость к одинокой женщине, то скажу вам только: жалости мне не надо…»
На этом месте обрывалось письмо Катеньки. Можайский взялся за письмо Волгина.
«Как вы мне наказывали, по приезде тотчас поехал в Васенки. Екатерина Николаевна, увидев меня, так удивилась, что не могла вымолвить ни слова. Я отдал ей ваше письмецо, она взяла и сказала: «Прости меня. Побудь здесь», — и ушла. Вернулась — глаза красные, и вся дрожит: «Я потом отвечу. Писать сейчас не могу, нету сил». Потом стала расспрашивать меня о нашей жизни в Париже, в Лондоне, не отпускала из Васенок два дня… Всюду каждый хочет слышать про подвиги наших воинов… Вас тут помнят, вспоминают, каким вы были сызмальства, ждут, что приедете в больших чинах. В поместье вашем все по-старому, от управителя народ по-прежнему в обиде, — и не удивительно: он из обнищавших дворян, а теперь живет в довольстве и сам себе деревеньку присмотрел… Думаю ехать на родину, хотя у меня никого не осталось — столько лет на чужбине прожил…»
Кроме этого письма, в почте была бумага о введении в права наследства Можайского и письмо управителя, коллежского асессора в отставке, Никифора Петровича Курнакова. Он поздравлял Можайского с наследством и прилагал к своему письму документы, кои, если угодно будет гвардии капитану, просил подписать, для того чтобы ими «впредь в действиях своих руководиться».
«Правила для управления моей вотчиной» — называлось сочинение коллежского асессора Курнакова.
«Стараться продавать все свои продукты, сколько возможно, в изделиях, хотя несколько дешевле, но всегда за наличные деньги… В случае рекрутского набора лучше вносить деньгами, нежели отдавать людей, разве каких-нибудь негодяев…»
Следовало примечание управителя:
«Есть слухи, что рекрутский набор в нынешнем году отменят, дабы дать возможность после войны оправиться помещикам от разорения».
К письму были приложены три рекрутские квитанции. Можайский взял в руки одну из них и прочитал:
«По указу его императорского величества Орловского округа Алексеевской волости дано сие отдатчику гвардии капитану Можайскому Александру Платоновичу, что он представил 1814 года августа 7 дня при своем доношении к рекрутскому приему, что с пятисот душ по восьми человек, 83-й набор в рекруты дворового человека Антона Жмыхова и по осмотру явился в указанные лета и меру в службу годным».
Далее следовали подписи советника и канцеляриста.
Долго держал Можайский в руках эти, написанные дубовым канцелярским языком квитанции и думал о судьбе людей, названных в серых, шершавых клочках бумаги. Двадцать пять лет жизни… Сколько обид незаслуженных, несправедливых наказаний, побоев ожидает этого неизвестного ему дворового человека с той минуты, как в присутствии воинском прокричат ему: «Лоб!» — и словно каторжанину-душегубу выбреют половину головы ото лба и еще наденут колодки, чтоб не сбежал…
А ведь он защитник отечества, как же можно рекрутский набор обращать в надругательство над человеком! Можайский тяжело вздохнул и снова взялся за письмо управляющего.
Далее следовало:
«Инструкция управляющему моему на управление о работах хлебопашественных и о крестьянах».
С краской стыда Можайский прочел:
«Ежели до восемнадцати лет крестьянин не выдаст дочери замуж, то отдать ее насильно за первого крестьянина, ибо она довольно имела времени избрать жениха…»
Он готов был изорвать инструкцию, но сдержался и стал читать дальше:
«Как господину управителю, так и бурмистру или старостам запрещается бить крестьян рукой, палкой или плетью и вообще, кроме розог, ничем не наказывать».
И это ему, другу Николая Тургенева, Владимира Раевского, подписать своей рукой?
Касаткин застал Можайского в волнении над изорванными в клочки «правилами и инструкциями». Можайскому надо было излить кому-нибудь душу, и он выбрал Касаткина.
— А что в сих правилах дурного? — хладнокровно сказал Касаткин. — Надо только, чтобы управитель был человек честный и богобоязненный…
![Дмитрий Виконтов - Родиться в Вифлееме [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)