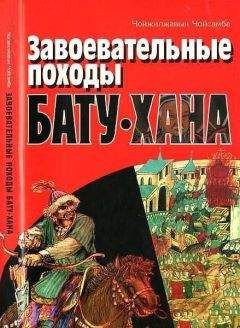Лев Никулин - России верные сыны
«Люди, бывавшие в сражениях, знают, что алебарды для унтер-офицеров и экспантоны для офицеров составляют только лишнюю обузу и что, коль скоро унтер-офицеры не имеют ружей, полк лишается до ста ружей, которые могли бы действовать против неприятеля…»
Можайский с благодарностью думал о том, что отменой многих глупых и бесчеловечных прусских правил русское войско обязано Кутузову и его соратникам. Но как еще силен проклятый «гатчинский» дух, любезный сердцу императора Александра…
Почтительно писал Воронцов о заслугах фельдмаршала Румянцева: «Этот необыкновенный человек, для которого военная служба (он вступил в нее с четырнадцатилетнего возраста) составляла предмет непрестанных помышлений, у которого глубина познаний освещалась гениальными способностями, покрыл себя славою в войне с пруссаками…»
Но при всем знании дела, искренности чувств воина, сражавшегося под знаменами великих русских полководцев, Воронцов высказывал мысли, которые казались Можайскому устарелыми: «Войско, где офицеры дворяне, конечно, выше того войска, где офицеры выскочки. Так и жду, что мне скажут: вот аристократическое мнение!» Невольно Можайский подумал о вышедших из простолюдинов маршалах, об армии французской революции и победах, одержанных этой армией, и действительно счел мнение Воронцова мнением аристократа. Гош был сыном фруктовщика, Моро — студент-юрист, Нэй — сын мельника, Ожеро — из простых солдат, к тому же он одно время разделял идеи Бабефа.
Кончалась записка Воронцова словами, против которых нельзя было возразить: «Мне могут указать в опровержение на великие подвиги в Италии, совершенные Суворовым в то время, когда уже действовали новые военные учреждения по прусскому образцу, но возражение это будет несправедливо: все знают, что великий человек этот не применял к делу ни одного из нововведений императора Павла. Подвиги Суворова служат, напротив, подтверждением тому, что я говорю».
Воронцов занимался и гражданскими делами; с немалым удивлением Можайский прочитал его записку о том, что в России напрасно истребляются леса на топливо, между тем «каменного угля имеется великое изобилие».
Убежденный крепостник был рачительным хозяином, он полагал, что если крестьяне его будут жить в довольстве, то от этого только приумножатся богатства помещика. С любопытством прочитал Можайский его письма бурмистру Карпу Федорову, советы, как сеять горох под соху в борозду, «оставляя три борозды праздными». Воронцов указывал, что «за сохою должны итти баба или мальчик с кузовком и сыпать из руки в борозду горох, отчего горох будет весь посеян в ряды, а между рядами летом очищать траву дикую сохою всякий раз, как она покажется из земли».
Далее следовал приказ привить зимою непременно всем крестьянам оспу, для чего отыскать прививальщика… На мирских сходках ставить стол и за стол садиться бурмистру и двенадцати присяжным старикам. «Крестьян Матвея Кузьмина и Федота Устинова за леность на барщине отдать не в зачет в рекруты».
Эти приказы рачительного хозяина-крепостника казались Можайскому не достойными гражданина, истинного сына отечества, и он с грустью думал: «Ужели и мне придется повелевать людьми, которые есть моя собственность, и может ли человек владеть человеком?..»
В ту пору он, Александр Можайский, был владельцем трех тысяч крепостных и одного только желал — перевести их в вольные хлебопашцы. Для этого требовалось высочайшее разрешение, и ему было известно, что просьба его вряд ли будет уважена. Князь Голицын, вельможа, близкий к престолу, не мог добиться высочайшего указа, когда пожелал освободить обоих крепостных.
Он было спросил совета у Касаткина, старик с изумлением выслушал Можайского и, наконец, сказал:
— Оставьте чудачества, Александр Платонович. Бог послал вам богатство — владейте с доброй душой. Окажите милость и заботу крепостным вашим. Конечно, разные бывают помещики. Вот, скажем, граф Платон Зубов. Его величество, проезжая через Шавельский повет, обратил внимание на бедственное положение крестьян графа Зубова, умиравших от болезней. А болезни происходили от дурной и недостаточной пищи. Его величество изволил указать: предосудительно одному из богатейших помещиков доводить своих крестьян до такой крайности. Вот Александр Васильевич Суворов против Зубова был бедняк, однако среди бранных трудов был добрым помещиком и хозяином, понуждал богатых и исправных крестьян помогать беднякам в податях и работах. Приказывал в неурожае подсоблять бедняку всем миром, заимообразно, без процентов. Вот с кого вам брать пример, Александр Платонович. Послали в поместье свое Федю Волгина, что ж, он хоть и молод, но человек добросовестный и, кажется, разумный. И нечего вам мудрить, как раньше бывало. Вы теперь человек богатый, владейте с богом, как отцы владели, раз счастье зам выпало.
Выслушав поучение, Можайский вернулся к архивным занятиям и, отодвинув переписку Воронцова с бурмистром, с большей охотой принялся за дела дипломатические. Здесь, в архиве, он изучил историю сношений России и Англии за два с лишним десятилетия. С горечью видел он, как щедр был английский кабинет на обещания и как мало склонен был помогать России сокрушить деспотизм Наполеона до той поры, пока Британскому острову не угрожала прямая опасность вторжения. Не так уж неправ был Наполеон, когда говорил в Париже русскому послу Куракину: «Ваша торговля с Англией невыгодна», или когда укорял Александра: «Англия поступает с вами, как с Португалией».
И все же, хоть и поучительны и интересны были занятия в архиве Воронцова, но Можайский тяготился лондонской жизнью, и вести, приходившие с родины, волновали его.
Александр Павлович был в Петербурге. Гвардия возвратилась в Россию морским путем из Шербурга и высадилась в Кронштадте.
С развевающимися знаменами прошли победоносные полки под сенью триумфальной арки, где были начертаны слова:
«Победоносной гвардии жители столичного града святого Петра от имени признательного отечества в 30 день июля 1814 года».
Но полиция била народ и не допускала его к солдатам, об этом написал Можайскому в письме, присланном с верной оказией, Дима Слепцов. Письмо было короткое и кончалось описанием отъезда из Шербурга. У Слепцова, на беду его, открылись раны, возвращаться походом с полком он не смог и избрал морской путь. В Шербурге для перевозки гвардейской пехоты были приготовлены большие русские и английские корабли.
Слепцов плыл на семидесятипушечном фрегате «Не тронь меня».
«Что ж, друг мой… Впереди — осень, тоскливая жизнь на постое в грязных литовских местечках и вино, вино, в коем истина и забвение… Хоть бы опять война, что ли… Хоть бы выпустили Бонапарта…»
Пришла грустная весть: 25 августа император подписал рескрипт, увольнявший в отставку государственного канцлера Николая Петровича Румянцева. День, когда пришла эта весть, был днем скорби для Семена Романовича. В волнении он шагал по кабинету, изливая свой гнев перед Можайским и Касаткиным, вспоминая заслуги Николая Петровича, его труды и дела, — при всех недостатках он был одним из образованнейших русских людей, послуживших русской науке и просвещению.
— Кто заменил его? Ничтожный Нессельрод, проходимец на русской службе! Маленький тритон, родившийся на британском корабле и пожалованный при рождении мичманом! Ни морскими, ни сухопутными доблестями себя не прославил! В дипломатии пел с чужого голоса, одно поваренное искусство познал и тем доволен…
Семен Романович садился, вставал, не находя себе места, шагал по кабинету.
— Карлик ростом, колосс честолюбием! Да неужто так бедна людьми Россия, что сей немец будет докладывать государю дела иностранные?.. Меттерних — его учитель, бог и царь! Небось, будет рад, есть чему радоваться!
Семен Романович оказался пророком. Отставка Румянцева и назначение Нессельроде, как писали газеты, вызвали удовольствие и одобрение австрийских дипломатических сфер. «Влияние графа Неосельроде будет направлено в благую сторону, к безопасности для соседей России», — то были слова Меттерниха, сказанные одному из его английских друзей.
Как ни старался Можайский уклоняться от приглашений к обеду и завтраку, ему все же приходилось бывать в свете. Бывал Можайский в тесном кружке, который собирался в доме Ольги Александровны Жеребцовой.
Приехал в Лондон знакомый по Петербургу, и особенно по компании во Франции, Сергей Григорьевич Волконский. Они встретились в доме Жеребцовой и тотчас уединились в угловой гостиной. Вспомнили Суассон и битву под Краоном, которая стоила жизни многим храбрым, вспомнили и других доблестных воинов, которым не привелось увидеть триумф русских в Париже. Волконский знал покойного Фигнера и скорбел об его смерти.
— Он привлекал к себе внимание с первого слова, — говорил Волконский, — наш фельдмаршал имел редкий дар разгадывать людей и недаром назвал он Фигнера человеком необыкновенным… Какой дерзновенный, неукротимый ум, какая натура страстная и безжалостная порой! Какой непреклонный характер! Бог знает, что бы с ним было, останься он жив. Он строил планы один другого дерзновеннее, и ежели бы пришло время их осуществить, не задумался бы ни на мгновение.
![Дмитрий Виконтов - Родиться в Вифлееме [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)