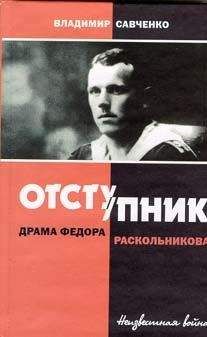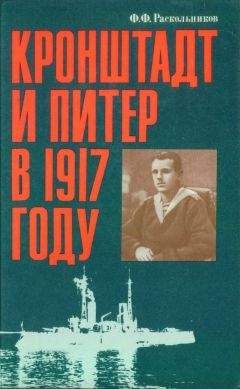Жорж Санд - Собрание сочинений. Т. 5. Странствующий подмастерье. Маркиз де Вильмер
— Хорошо, допустим, — ответил маркиз. — Надо же вам когда-нибудь узнать, что вы не вольны распоряжаться капиталом.
Герцог, не зная, что предпринять, так стиснул руки, что хрустнули пальцы, и погрузился в молчание. Маркиз, с трудом преодолевая привычную сдержанность, сел подле Гаэтана и, коснувшись его сжатых рук, как бы противившихся этому прикосновению, сказал:
— Друг мой, вы чересчур высокомерны со мной. Неужели, оказавшись на моем месте, вы поступили бы иначе по отношению ко мне?
Герцог почувствовал, что сердце его дрогнуло, и разразился слезами.
— Нет, — воскликнул он, крепко сжимая руки маркиза, — я не сумел бы да и не посмел бы так поступить, потому что мой удел — причинять зло, а спасать чужие жизни — это счастье не для меня.
— Но вы хотя бы понимаете, что это счастье, — продолжал Урбен. — Отныне считайте меня своим должником и верните мне дружбу, которая гибнет от вашей уязвленной гордости.
— Урбен! — сказал герцог. — И ты еще говоришь о моей дружбе? Сейчас самое время мне рассыпаться перед тобой в благодарностях, но я этого не сделаю. Я никогда не надену лицемерной маски, никогда не паду так низко. Знаешь ли ты, брат, что я всегда тебя недолюбливал?
— Да, знаю и объясняю это различием наших вкусов и душевного склада. Но разве не пробил час нам полюбить друг друга?
— Но этот час ужасен! В этот час ты торжествуешь, а я унижен. Скажи мне, что, не будь матушки, ты бросил бы меня на произвол судьбы! Да, ты должен мне сказать честно, к тогда я прощу тебе твой поступок.
— Разве я тебе об этом не говорил?
— Скажи еще раз… Ты колеблешься? Стало быть, это вопрос чести.
— Да, если угодно, вопрос чести.
— И ты не требуешь теперь от меня большей любви, чем я питал к тебе прежде?
— Я знаю, что такова моя участь, — грустно отозвался маркиз. — Я не рожден быть любимым.
Эти слова окончательно покорили герцога, и он бросился в объятия маркиза.
— О, прости меня! — воскликнул Гаэтан. — Ты лучше меня. Я уважаю тебя, восхищаюсь тобой, почти благоговею. Теперь я знаю, что ты мой лучший друг. Господи, что мне для тебя сделать? Может, ты любишь женщину и нужно убить ее мужа? Или хочешь, я поеду в Китай за редким манускриптом в какую-нибудь пагоду, рискуя попасть в колодки или подвергнуться другому, столь же приятному испытанию?
— Ты, Гаэтан, только и думаешь, как со мной расквитаться. Люби меня чуть больше и считай, что заплатил за все сторицей.
— Я люблю тебя от всего сердца, — отвечал герцог, обнимая брата. — Ты видишь, я плачу как ребенок, но и ты уважай меня хоть немного. Я стану лучше, ведь я еще молод, черт возьми. В тридцать шесть лет еще не все потеряно. Правда, я уже порастратил себя, но я остепенюсь… Тем более что ничего другого мне не остается. Все еще сложится прекрасно. Я поправлю здоровье, помолодею. Летом поеду с тобой и матушкой в деревню, буду рассказывать забавные истории, стану смешить вас… Ты только помоги мне в этих планах, поддержи, не оставь, утешь! Ведь я зашел в тупик, и мне сейчас очень плохо.
Маркиз сразу же заметил исчезновение пистолета, который еще час назад лежал на столе, но не подал вида. По лицу брата он, впрочем, понял, какой мучительный душевный перелом в нем только что произошел. Он знал, что силе духа Гаэтана положены известные пределы.
— Одевайся, — сказал ему маркиз, — поедем завтракать. Поболтаем, потешим себя химерами. Может быть, я и докажу тебе, что иногда человек богатеет в тот день, когда утрачивает все.
V
Маркиз повез брата в Булонский лес, который в ту пору еще не был великолепным английским садом, а всего лишь прелестной рощей, тенистой и укромной. Стояли первые апрельские дни. Погода была превосходная, на полянах синим ковром распускались фиалки, и стайки непоседливых синиц щебетали кружа у распустившихся почек, а бабочки-лимонницы, эти вестницы весенних погожих дней, робко порхали, словно трепетали на ветру едва появившиеся, еще желтоватые листочки.
Обычно маркиз завтракал дома, но, говоря по правде, он не умел есть в гастрономическом смысле этого слова. Он заказывал нехитрое кушанье, которое поспешно проглатывал, не отрывая глаз от книги, лежащей возле тарелки. Привычная воздержанность маркиза полностью отвечала его строгой бережливости: ведь он не позволял себе никаких лакомств, дабы на материнском столе не переводились изысканные блюда.
Желая скрыть это от брата и боясь огорчить его скромностью своего жилища, он пригласил герцога в ресторан и заказал прекрасный завтрак, утешая себя тем, что купит на несколько книг меньше, а при случае, подобно бедняку-ученому, прибегнет к услугам общественных библиотек. Эти мелкие жертвы не удручали и не пугали маркиза; он даже не думал о слабом своем здоровье, которое требовало житейского комфорта. Маркиз был счастлив тем, что между ним и братом лед уже сломан и что отныне можно рассчитывать на привязанность и доверие Гаэтана. Бледный, усталый и озабоченный герцог постепенно приходил в себя, наслаждаясь весенним воздухом, который свободно проникал в открытое окно. Завтрак поддержал его силы: герцог был натурой здоровой, неспособной к воздержанию, — недаром его мать, любившая при случае упомянуть о своем родстве с бывшим царствующим домом, не без гордости говорила, что герцог унаследовал прекрасный аппетит от Бурбонов.
Через час герцог уже непринужденно болтал со своим братом и первый раз в жизни был с ним таким любезным и беспечным, каким его знали в свете. Вероятно, между братьями и раньше возникало робкое взаимопонимание, но они никогда не давали ему хода и, уж конечно, не разговаривали откровенно. Маркиз замыкался в себе из скромности, герцог — из равнодушия. Однако на сей раз герцогу и вправду захотелось узнать человека, который спас его честь и обеспечил будущее. Поэтому он расспрашивал брата с тем участием, которое раньше за ним не водилось.
— Объясни, отчего ты счастлив, — спрашивал герцог. — А ведь ты действительно счастлив. Во всяком случае, я никогда не слышал, чтобы ты жаловался.
Ответ маркиза сильно удивил герцога.
— Во мне есть душевные силы только потому, что я предан матушке и люблю науку, — сказал Урбен, — а счастья я никогда не знал и не узнаю. Наверное, мне следовало бы об этом умолчать, так как я хочу тебе привить вкус к тихой и уединенной жизни. Кривить душой в нашей беседе кажется мне преступным, да я и не стану изображать ходячую добродетель, хоть ты меня в этом и упрекал.
— Да, правда. Я признаю, что ошибался. Но отчего ты несчастен, друг мой? Ты мне можешь это сказать?
— Сказать не могу, но довериться хочу. Я любил одну женщину.
— Ты? Любил? Когда же?
— Давно, и любил ее долго.
— Ты больше ее не любишь?
— Ее нет в живых.
— Она была замужем?
— Да, супруг ее здравствует и по сей день. Позволь мне не называть ее имени.
— Оно не суть важно, но… ведь твое горе со временем пройдет?
— Не знаю. Покамест не проходит.
— И давно она умерла?
— Три года назад.
— Она тебя очень любила?
— Нет.
— Как нет?
— Она любила меня так, как любит женщина, которая не может и не хочет порывать со своим мужем.
— Разве это причина? Такие преграды лишь разжигают страсть.
— И убивают ее. Эта женщина устала лгать и огрызаться, но не порывала со мной, так как боялась огорчить меня. Я был постыдно малодушен, и она умерла от горя и… по моей вине.
— Полно! Зачем ты мучаешь себя этими бреднями?
— Это не бредни. Горе мое безысходно, а ошибка непростительна. Рассуди сам: в порыве страсти, когда вопреки богу и людям хочешь навеки слиться с любимым существом, я сделал ее матерью. Она подарила мне сына, которого я спас, укрыл, и он жив по сей день. А она, желая избегнуть подозрений, появилась в свете сразу же после родов. В тот вечер она была весела и прекрасна, вела беседы, оживленно сновала меж гостей, хотя ее сжигала горячка. А через сутки она умерла. Так никто ничего и не узнал. Она слыла женщиной самых строгих правил…
— Я знаю, о ком ты говоришь. Это госпожа де Ж***.
— Да, ты один знаешь эту тайну.
— И я ее сохраню. А матушка не догадывается об этом?
— Она ни о чем не подозревает.
Герцог некоторое время молчал, потом со вздохом заметил:
— Бедный мой друг! Твой мальчик жив, и ты его, верно, очень любишь…
— Конечно!
— А я разорил и его!
— Пустяки! Лишь бы хватило средств его выучить, сделать человеком, а большего я и не смею желать. Я никогда не смогу признать его своим сыном и в течение нескольких лет не хочу приближать к себе. Он родился очень слабенький, и я его отдал в деревню на воспитание к крестьянам. Ему надо вырасти и обрести физическую силу, которой недостает мне. Вероятно, поэтому я всегда и ощущаю недостаток душевных сил. К тому же перед смертью госпожи де Ж*** врач ненароком обмолвился, и ее супруг заподозрил, в чем дело. Я еще долго не должен видеться с этим ребенком, ровесником того мрачного события. Теперь ты понимаешь, Гаэтан, могу ли я быть счастливым?