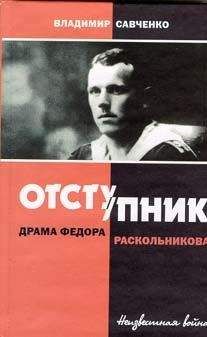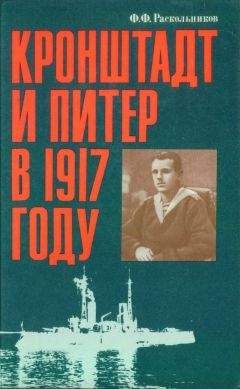Жорж Санд - Собрание сочинений. Т. 5. Странствующий подмастерье. Маркиз де Вильмер
— Нет, друг мой, — запальчиво возражал герцог, — на сей раз я не сдамся, не позволю вам подписать бумаги и не дам заплатить мои долги.
— Я заплачу их, — решительно отвечал маркиз. — Это необходимо, и это моя обязанность. Честно говоря, я поначалу колебался, так как не знал суммы, но моя нерешительность не должна покоробить ваших чувств. Я боялся, как бы взятые обязательства не превысили моих возможностей, но теперь уже знаю, что на оставшиеся деньги сумею обеспечить благополучие нашей матушки. Отныне ничто не помешает мне спасти семейную честь, и вы не имеете права этому противиться.
— Нет, этого я не допущу. Вы не обязаны приносить мне такую жертву. Мы носим разные имена.
— Но рождены одной матерью, и я не хочу, чтобы она, увидев вас несостоятельным должником, умерла от стыда и горя.
— Подобный позор для меня еще страшнее, чем для нашей матушки. Я женюсь.
— На деньгах? Вы прекрасно знаете, что для матушки, для меня и для вас тоже это будет горьким испытанием.
— Тогда я подыщу себе должность.
— Это еще хуже.
— Но страшнее вашего разорения ничего и придумать нельзя.
— Вы меня не разорите.
— Могу я хотя бы знать сумму?
— Совершенно ни к чему. Я вполне удовлетворен вашим словом, что у вас сейчас нет долгов, неизвестных нотариусу, который ведает делами. Я просил вас только проглядеть некоторые бумаги, чтобы удостовериться, не вкралась ли в них ненароком ошибка.
Вы подтвердили их законность. Этого достаточно, остальное вас не касается.
Герцог гневно скомкал бумаги и зашагал большими шагами по комнате, не находя слов, чтобы выразить свое отчаяние. Потом он закурил сигару, отложил ее в сторону и, сильно побледнев, бросился в кресло.
Маркиз понимал, как была уязвлена его гордыня, а может быть, и совесть.
— Успокойтесь, — сказал он. — Я сочувствую вашему горю, но полагаю, что оно послужит вам добрым уроком на будущее. Не думайте об услуге, которую я оказываю скорее матушке, чем вам, но помните, что отныне остаток состояния принадлежит ей. Думайте о том, что нам, может, посчастливится продлить ее жизнь на долгие годы и что нельзя ей причинять страдания. Прощайте. Встретимся через час, чтобы уладить все мелочи.
— Да, да, оставьте меня сейчас одного, — сказал герцог. — Вы сами видите — я не в силах продолжать разговор.
Едва маркиз удалился, как герцог вызвал лакея, велел никого не принимать и в глубоком волнении принялся шагать из угла в угол. В этот час он пережил неотвратимый и мучительный перелом. Он не раз попадал в беду, но никогда еще так остро не ощущал своей вины и так в ней не раскаивался.
Прежде он действительно проматывал свое состояние жадно и беспечна, так как знал, что губит одного себя. Герцог, так сказать, злоупотреблял наследным правом. Потом, не вполне ведая, что творит, он принялся и за материнские деньги, прокутил их и уже даже не терзался унизительной мыслью о том, что обязанность поддерживать мать целиком возложена им на плечи маркиза. Заметим, что герцогские безумства были отчасти извинительны. Он был непростительно избалован. Мать всегда выказывала ему явное предпочтение, да и природа явно благоволила герцогу: он был выше ростом, намного красивее, сильнее, представительней и, вероятно, жизнеспособней брата; ласковый и общительный, он с детства казался всем гораздо одареннее и приятнее маркиза.
Тот же, болезненный и замкнутый с колыбели, отличался только пристрастием к наукам, но то, что составило бы неоспоримое достоинство у простолюдина, выглядело у аристократа странной причудой. Любомудрие в нем подавляли, а не поощряли, и именно поэтому оно превратилось в подлинную страсть, страсть всепоглощающую и предосудительную в чужих глазах, которая породила в его молодой душе тонкую восприимчивость и жажду к учению тем более пылкую, что она таилась под спудом. Маркиз намного превосходил брата сердечной теплотой, но слыл человеком холодным, а герцога, который не любил никого, но всегда был учтив и общителен, почитали пламенной натурой.
Этот бурный и обманчивый темперамент герцог унаследовал от отца, а его живость в юности тревожила маркизу. Читателю известно, что после смерти второго мужа она пребывала в полубезумном состоянии и боялась приближаться к своим детям. Но как только материнские чувства возобладали над душевным расстройством, маркиза сразу заключила в объятия сына возлюбленного супруга. Мальчик, удивленный и даже напуганный порывистыми ласками, от которых успел отвыкнуть, принялся плакать, сам не зная почему. Эти его слезы явились, вероятно, смутным и бессознательным укором ребенка, брошенного на произвол судьбы. Герцог, будучи старше брата на три года и по природе менее вдумчивый, ничего не заметил. Он охотно отвечал поцелуями на поцелуи матери, и бедная женщина решила, что это чадо и унаследовало ее сердце, тогда как маркиз пошел в деда с отцовской стороны, старого ученого маньяка. Словом, она втайне стала предпочитать герцога, но, обладая добрым запасом христианской справедливости, особенно его не баловала, зато чаще ласкала, думая, что только он может оценить эти знаки материнской любви.
Урбен (маркиз) чувствовал это предпочтение и мучился, хотя никогда не жаловался. В душе он, возможно, уже осуждал поведение брата, но не желал оспаривать первенство по столь несерьезному поводу.
Со временем маркиза поняла свою ошибку, поняла, что о чувствах судят не по словам, а по поступкам; однако привычка во всем потакать своему блудному чаду укоренилась, а к ней скоро прибавилась материнская жалость к беспечному повесе, который благодаря своим безумствам шел к неминуемой катастрофе. Но не развращенность души была причиной герцогских безумств. Поначалу тщеславие, потом опьянение молодостью, наконец торжество безволия и тирания порока — вот в нескольких словах история этого человека, любезного, но не утонченного, доброго, но не великодушного, скептика, но не безбожника. В описываемую нами пору вместо совести в его душе зияла пустота, однако совесть его не умерла — она просто отсутствовала. Он еще терзался раскаянием и угрызениями, боролся с собой, но они быстро исчезали и возвращались реже, чем в юности, зато острота их, пожалуй, все возрастала, и на сей раз внутренний разлад был так мучителен, что герцог не раз хватался за пистолет, словно его подталкивал призрак самоубийства. Но, вспомнив о матери, он отбросил оружие прочь, запер его и схватился за голову, охваченный страхом, что вот сейчас сойдет с ума.
Деньги он презирал всегда, а материнская теория благородного бескорыстия лишь ускорила его скольжение по наклонной плоскости софизмов. Тем не менее он понимал, что, разорив мать, злоупотребил своими правами, но постарался забыть об этом, дав себе слово не запускать руку в наследство брата, и все-таки промотал его значительную часть. Правда, действовал он как-то бессознательно, а маркиз из деликатности не входил с ним в мелочные расчеты и никогда не заговорил бы с герцогом об этом, если бы не считал необходимым воззвать к его чести ради сохранения того, что еще не было растрачено. Герцог, не чувствуя себя виновным в предумышленном эгоизме, с полной искренностью осыпал Урбена градом упреков за то, что тот не предупредил его раньше. Он наконец увидел, какая пропасть разверзлась перед ним из-за его мотовства и беспечности. Герцог был смертельно унижен тем, что поставил под угрозу будущее Урбена и что теперь принужден исправлять свои ошибки, поступаясь строгими принципами, внушенными ему матерью и воспитанием.
Однако этот его проступок был меньшим преступлением, нежели разорение маркизы. Герцог же смотрел на это иначе. Ему всегда казалось, что материнские деньги в равной мере принадлежат и ему, тогда как в расчетах с братом самолюбие подсказывало ему понятия «твое» и «мое». Да оно и понятно. Братья, столь различные меж собой, не питали друг к другу постыдной неприязни, но и не чувствовали особого доверия и расположения. Жизнь одного как бы постоянно перечеркивала жизнь другого, и Урбену стоило больших душевных усилий, чтобы голос крови заговорил в нем голосом дружбы. Гаэтан и не помышлял о подобной близости. Полностью полагаясь на свою пресловутую незлобивость, он позволял себе насмехаться над строгими нравами маркиза. Поэтому большую часть времени они обходились друг с другом так: один деликатно сдерживал свое осуждение, другой непринужденно отпускал шпильки.
— Стало быть, дела улажены? — воскликнул герцог, завидя входящего маркиза. — По вашему лицу вижу, что бумаги подписаны.
— Да, друг мой, — отвечал Урбен, — все улажено. Вам остается двенадцать тысяч ливров ренты, которые я не позволил включить в погашение.
— Мне остается? — спросил Гаэтан, глядя маркизу прямо в глаза. — Не нужно меня обманывать. У меня нет ни греша, а вы, уплатив мои долги, назначили мне теперь пенсию.