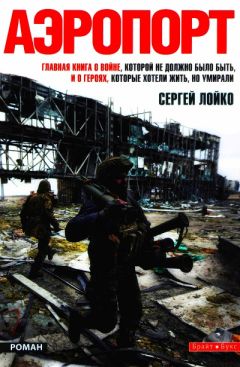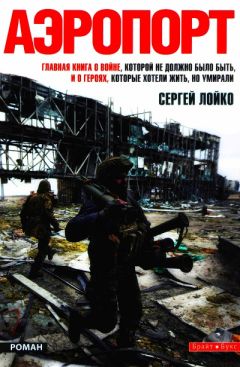Фау-2 (ЛП) - Харрис Роберт
Никто из остальных не хотел туда идти. Небель симпатизировал нацистам и презирал консервативную армию. Рольф Энгель, тоже двадцатилетний, был коммунистом и не желал иметь дело с военными. Клаус Ридель — утопист, противник любой войны. Отец Графа был отравлен газом в Первую мировую и всю жизнь поддерживал Лигу Наций. Фон Браун убеждал их, что упускать такой шанс — безумие:
— Мы даже не знаем, как измерить результаты испытаний — расход топлива, давление сгорания, тягу. Как мы можем двигаться вперёд, не имея для этого оборудования? А где мы его ещё достанем, кроме как через армию?
«Ваши родители были коммунистами, так?»
Нет, они состояли в Социал-демократической партии.
Один из гестаповцев закатил глаза. Социалисты, коммунисты, пацифисты — для него это было одно и то же.
Споры в Ракетном аэродроме о том, что делать дальше, быстро переросли в ссору. Прозвучали резкие слова. В итоге никто, кроме фон Брауна, не отправился в Куммерсдорф — теперь он был связан правилами военной тайны. Это был последний раз, когда Граф разговаривал с ним почти за два года.
А за эти два года произошло многое. Граф оказался в центре Берлина в ту ночь, когда нацистское факельное шествие прошло через Бранденбургские ворота к Рейхсканцелярии в честь прихода Гитлера к власти. В следующем месяце он видел зарево в небе — горел Рейхстаг. Когда режим воспользовался всеобщей паникой, чтобы начать преследование оппонентов, его родители оба потеряли работу. Осенью гестапо провело обыск на территории Ракетного аэродрома, сняло отпечатки пальцев со всех участников и заставило членов общества подписать обязательство не делиться своими разработками с «иностранными державами» — документ, не имевший особой ценности, так как эксперименты к тому моменту практически прекратились из-за нехватки средств. В это время Граф уже покинул Технический институт и учился в Берлинском университете, готовясь к защите диссертации.
Иногда он мельком видел высокий силуэт фон Брауна в коридоре или на улице поблизости, а однажды, гуляя в парке неподалёку от Александрплатц, ему показалось, что он увидел его верхом на лошади. Но всадник был слишком далеко, к тому же на нём была форма СС, и Граф отбросил мысль, сочтя это невозможным.
Как бы то ни было, они снова встретились только летом 1934 года — к сожалению, Граф не мог назвать гестаповцам точную дату, хотя помнил, что это было ближе к вечеру. Он сидел у себя в мрачной однокомнатной квартире в районе Кройцберг, писал диссертацию «Некоторые практические проблемы жидкостной ракетной тяги», когда услышал, как на улице за окном кто-то давит на клаксон. Звук был такой громкий и не прекращался, что в конце концов он поднялся посмотреть, что происходит. На тротуаре стоял фон Браун, с рукой на клаксоне, и смотрел прямо на окна дома. Ничего не оставалось, как спуститься и сказать ему, чтобы он замолчал.
Он совершенно не обиделся.
— Руди! Мне сказали, что ты живёшь в этом доме, но я не знал номер квартиры. Садись, я хочу тебе кое-что показать.
— Уходи. Я работаю.
— Ну же, ты не пожалеешь. — его неотразимая улыбка и рука на плече.
— Нет, это невозможно.
Но, разумеется, он пошёл.
В те дни фон Браун ездил на крохотном, потрёпанном двухместном Ханомаге, который купил за сто марок. Машина выглядела как моторизованная детская коляска: без крыши, а местами и без дна. Граф видел, как дорога мелькает под его ногами, пока они мчались на юг, прочь из города, в сельскую местность. Говорить было слишком шумно. Он догадывался, куда они направляются. Через полчаса они свернули с шоссе. Фон Браун показал охраннику пропуск, и они проехали мимо кирпичного административного корпуса армейского испытательного полигона в Куммерсдорфе, пересекли плоскую пустошь и подъехали к скоплению бетонных построек и деревянных бараков.
— Вернер...
— Просто выслушай.
Снаружи это выглядело довольно заурядно. Но внутри фон Браун провёл его сквозь настоящий рай — по крайней мере, в глазах Графа: выделенная конструкторская мастерская, рабочие помещения, фотолаборатория, диспетчерская, полная измерительной аппаратуры, и наконец, лучшее из всего — бетонный бункер под открытым небом, в центре которого возвышалась А-образная рама из тяжёлых металлических балок, высотой около трёх метров. На ней, закреплённый на жёстких кронштейнах, висел ракетный двигатель. По его бокам тянулись топливопроводы и кабели. Внизу торчало сопло. Фон Браун жестом показал укрыться за низкой стенкой, затем обернулся и поднял вверх большой палец.
Мужчина в комбинезоне — Граф понял, что это был Хайни Грюнов, механик с Ракетного аэродрома — повернул пару массивных маховиков. Под двигателем появился прозрачный белёсый туман. Другой человек, в защитных очках, подошёл с длинным шестом, на конце которого была прикреплена горящая жестяная банка с бензином. Отвернув голову, он осторожно ввёл пламя в облако.
Из сопла вырвался столб пламени — голубовато-красный, чистый и чёткий. Лёжа в своей тёмной комнате в Схевенингене, Граф до сих пор мог вспомнить каждую из тех десяти секунд, пока двигатель работал. Глухой рев струи в замкнутом пространстве; вибрации, с которыми мотор пытался вырваться из креплений; жар на лице; всепоглощающий сладковатый запах сгорающего топлива; головокружительное ощущение мощи — будто они на мгновение подключились к самому солнцу. Когда всё закончилось, бункер погрузился в темноту, и в ушах стояла звенящая тишина. Он замер, не двигаясь, почти полминуты, глядя на отработавший двигатель, пока фон Браун не повернулся к нему. На его лице — впервые — не было улыбки, только полная, сосредоточенная серьёзность.
— Послушай меня, Руди, — сказал он. — Это чистая правда: дорога на Луну идёт через Куммерсдорф.
В тот же самый день днём Граф подписал контракт с армией: «оказывать содействие, под руководством Wa Prw 1/I, в разработке и проведении экспериментов на испытательном стенде для жидкостных реактивных двигателей на Главной батарее Запад, Куммерсдорф». В обмен ему полагалось жалованье — четырнадцать марок в день. Деньги, которые он мог отдавать родителям.
Вернувшись в Берлин, они пошли отметить это дело в баре.
— Скажи, это ты был в форме СС не так давно? Верхом? — не удержался Граф.
— А, это? — фон Браун небрежно махнул коктейлем. — Я просто записался в школу верховой езды СС в Халензе — не в само СС. Уже и то бросил. С этими людьми неплохо быть знакомым. К тому же, я люблю ездить верхом.
Точно с таким же тоном он говорил и в 1937 году, когда Граф впервые заметил у него в петлице значок со свастикой.
— Ты вступил в партию?
— Технически — да. Я номер пять миллионов с чем-то. Ну же, Руди, не смотри так! Сейчас, если хочешь чего-то добиться, надо хоть какую-то лояльность показать. На собрания, впрочем, ходить не нужно.
А потом — снова, в 1940-м, когда в Пенемюнде принимали высоких гостей из СС, и фон Браун появился в чёрной форме унтерштурмфюрера — светловолосый, широкоплечий, с выдающимся подбородком, словно сошедший с иллюстрации из Das Schwarze Korps.
— Это чисто почётное звание. Гиммлер настоял. Не волнуйся — как только эти господа уедут, форма снова отправится в шкаф.
Стук в дверь гостиничного номера. Голос сержанта Шенка:
— Доктор Граф? Уже после полуночи.
Он и не заметил, как поздно. Видимо, в какой-то момент задремал. Он сел на кровати и с сожалением уставился на догоревшую сигарету. Это была последняя, которой он мог насладиться в ближайшие часы.
— Спасибо. Уже иду.
Он взял с тумбочки фонарик, включил его и осветил комнату. Узкий луч осветил типичное скромное курортное жильё, какое он помнил с детских каникул: кресло, комод, крошечная раковина в углу под зеркалом, шкаф. Рядом со шкафом стояло маленькое бюро с закруглённой крышкой и старый офисный стул, который ему удалось раздобыть вскоре после прибытия. Иногда он сидел за ним и работал. Он направил луч обратно на шкаф, поднял его вверх по створкам — к чемодану, лежавшему на самом верху. Он не прикасался к нему уже несколько недель.