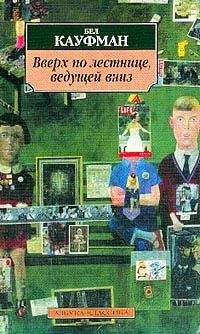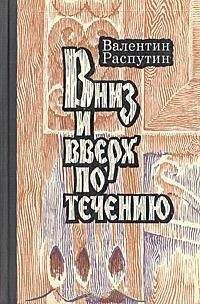Елена Холмогорова - Рама для молчания
А теперь маленькое, но существенное для меня отступление.
Сейчас каждый норовит сказать, что антисоветчиком был с детского сада. Не стану лукавить: я с комом в горле выходила на торжественных линейках под знаменем нашей пионерской дружины, и, хоть активисткой не была, до определенного момента не чувствовала идеологического пресса. Первой ласточкой моего прозрения оказалось, как водится, «наше все». Было задано домашнее сочинение по «Евгению Онегину». Тему не помню, но, наверное, что-то вроде «энциклопедии русской жизни». Сочинения не составляли для меня особого труда, но был список рекомендованной литературы, и я отправилась в читальный зал. Я впервые открыла настоящую литературоведческую книгу. Точнее, брошюру. Автора, разумеется, не помню, но, как сейчас полагаю, издана она была в 1937 году, к столетней годовщине смерти Александра Сергеевича. Реконструкции мои сегодняшние основаны именно на том, что поразило меня тогда и с чего начались, как говорил Андрей Донатович Синявский, «стилистические разногласия с советской властью». Поначалу мне нравились длинные округлые фразы, очень «правильные» построения, и я даже выписала кое-что для будущего сочинения. Но финал совершенно выбил меня из колеи.
Как жаль, что не дожил Александр Сергеевич до наших дней! – восклицал автор. – С какой бы радостью он «содвинул бокалы» с прославленным героем-летчиком Валерием Чкаловым и порадовался успехам нашей социалистической Родины!
Валерий Чкалов, в год юбилея совершивший перелет через Северный полюс в Америку, разбился на следующий год при испытании нового истребителя, и даже странно, что авиаконструктор Н.Н.Поликарпов еще раз не отправился за это в места не столь отдаленные. У меня была изданная, вероятно, в том же году, детская книжка, которую я любила рассматривать. Больше всего мне нравилось, что у самолета были красные крылья – настоящие «крылья Родины». Так что имя Чкалова было мне хорошо известно. Но при чем здесь Пушкин! И такой фальшью потянуло со страниц, где только что так плавно лились обобщения и сравнения… Нет, никогда не стану я заниматься филологией, если платой будет обязательное привязывание любимого поэта к «простым людям» и свершениям социализма.
Примерно в это же время, уже вкусив отравы критического подхода к безусловным вроде бы текстам, я впервые задумалась над словосочетанием «интеллигенция и народ», да так и пребываю в этой задумчивости сегодня, сорок пять лет спустя. Тогда же союз «и» в привычном клишированном сочетании, до поры не резавший слух, вдруг стал невыносим, обнажилась вся вредоносная нелепость такой дихотомии.
Так вот, в одном из отцовских писем есть описание вечера, когда он читал стихи своим боевым товарищам. До фронта он едва ли знал таких людей – крестьянских парней из глухих деревень, рабочих от станка. Как он волновался! И каким счастьем для него было, что они слушали, не проронив ни звука. И, может быть, я впервые поняла, что такое боевое братство, когда на кону жизнь своя и родной страны и, в конечном итоге, почему мы победили…«24 февраля на вечере самодеятельности я выступал со своим новым большим стихотворением «Сталинградец». Никогда еще не испытывал я таких вдохновенных минут! Я читал не готовясь, даже не обдумав хоть сколько-нибудь, как буду читать. Я не волновался – и все же, помню, дрожал всем телом, именно что не от волнения, от полноты счастья. Каждая интонация, каждый жест приходили сами, приходили вовремя. Зал слушал – я чувствовал его в своих руках. После выступления я спрашивал многих солдат: правдиво ли, просто ли, похоже ли на действительность? И ответы были самыми удовлетворительными!.. Я знаю, что Кошелев не любит меня – вероятно потому, что чувствует – или не может признаться себе в том, что мое будущее – больше, светлее, интереснее. Не прощу ему той усмешки, с которой он, маскируясь дружеской улыбкой, сказал мне, вышедшему на пространство перед рядами: «Только покороче…» (5 марта 1945 г.).
Я читаю письма, стыжу себя, но ненавижу неведомого Кошелева, может быть, героя, отдавшего жизнь на той войне, ничего не могу с собой поделать – ненавижу за то, что посягнул на самое для отца святое:
Почему ты жил? Какая сила
Жизнь твою – сквозь гибель выносила
Из неравных схваток всякий раз?
Ярость? Иль удача? Иль отвага?
Ты не знал. Ты знал: назад ни шага!
Ты был жив. Ты выполнял приказ.
(Из поэмы «Сталинградец») Уже навсегда узаконили пастернаковские строки как формулу «неслыханную простоту», и эта «ересь» прорывается сквозь привычные эстетские фиоритуры. И волею обстоятельств такой образ мыслей и рисунок поведения становятся органичными.
Много лет назад, занимаясь историческими штудиями эпохи Александра Первого, я прочитала работу Юрия Лотмана, настоящего (без привлечения Валерия Чкалова!) пушкиниста, «Декабрист в повседневной жизни». И тогда меня поразило замечательно точное рассуждение, многое объясняющее в мучившем меня клише «интеллигенция и народ». Лотман расставил все по своим местам. Да, народники, бросившие свои уютные гостиные с фикусами и геранями и пошедшие проповедовать и просвещать в курные избы, казались безусловными героями, а не понявшие и не оценившие их порыва крестьяне – неблагодарной темной «массой». Но почему так случилось? «…Подлинно хорошее воспитание культурной части русского дворянства означало простоту в обращении и то отсутствие чувства социальной неполноценности и ущемленности, которые психологически обосновывали базаровские замашки разночинца. С этим же была связана и та, на первый взгляд, поразительная легкость, с которой давалось ссыльным декабристам вхождение в народную среду, – легкость, которая оказалась утраченной уже начиная с Достоевского и петрашевцев… Эта способность быть без наигранности, органически и естественно «своим» и в светском салоне, и с крестьянами на базаре, и с детьми составляет культурную специфику бытового поведения декабриста, родственную поэзии Пушкина и составляющую одно из вершинных проявлений русской культуры».
«Отец! Хочу описать тебе хоть один вечер – из стольких вечеров, проведенных мною без тебя. Я иду по затвердевшей земле, слушая свой шаг, хруст мерзлой грязи, покряхтывание льда. Впереди в лунных отсветах далеко вырисовываются очертания станции, горб взорванной водокачки вровень с деревьями, плоские пакгаузы, неподвижные массы скопившихся на путях вагонов. Я слышу звук, проникающий неожиданно во все и все меняющий. Останавливаюсь и распознаю немецкие моторы. Самолет идет недалеко, но стороной, разливая металлический волнообразный звук. В этот момент я как раз останавливаюсь метрах в шестидесяти от зенитно-орудийных гнезд. Воздух неколебим – до самого зенита, где текут стада облаков – и в нем ясно раздаются голоса. Обычные слова команды: «Внимание!..» Затем: «Направление север». Звук мотора приближается. Затем: «Угол возвышения сорок пять, трубка…» Я знаю: сейчас будет выкрик: «Огонь!» На таком расстоянии волна оглушительней всего. Но мысль занята не этим. Я слушаю звонкие серьезные голоса девушек-зенитчиц, произносящие слова команды. Я смутно вижу фигуры у поднятых вверх стволов. Я представляю себе этих молоденьких веселых девчат и всем собою чувствую могучий теплый воздух, слышу звук идущего в нем на высоте немецкого самолета. В этом соединении явлений есть что-то необъяснимое, но оно объясняет до дна войну, весь смысл ее притупившегося понятия» (март 1943 г., Курск).
Я искала, чтобы привести здесь, точную цитату, но – вот уж в полном смысле слова – Habent sua fata libelli, в том числе и книги, которые обрели приют на твоей книжной полке, они тоже имеют свои судьбы. И, листая книги Лотмана, я наткнулась на публикацию странички из рубрики «ветераны вспоминают» в газете Тартуского университета: «У всех была разная война. Знать войну вообще так же невозможно, как знать жизнь вообще… В одних случаях страшнее всего мороз, в других – танки, в третьих – комары и пикирующие самолеты, в четвертых – старшина или стертые ноги». И вспоминаю подчеркнутое в письме: « Я готовился к большему, но я не знал, что бывает худшее». И дальше у Лотмана читаю следующий парадокс: «На передовой – те, кто не были, мне могут не поверить – гораздо лучше, если, конечно, не считать того, что там чаще убивают. Но это на войне входит в правила игры».
Армейская судьба отца сложилась так, что он, в основном, был вдали от передовой, и это составляет предмет его серьезных нравственных мучений:
«…Я думаю о себе. Ведь я – молодой, здоровый – нахожусь практически в тылу. Но каждый ли может быть на моем месте? Я полезен уже потому, что занимаю должность, на которую без меня потребовался бы другой человек, не всякий человек, человек, который, в свою очередь, нужен на другом месте. Правда, я – далеко не конечное звено в той цепи, которой соединен тыл с фронтом. Я – посредине, пожалуй, даже ближе к тылу. Я кормлю триста человек. Эти люди работают на машинах. Машины перевозят продовольствие, боеприпасы, тыловые учреждения. Бойцы в окопах стреляют патронами, подвезенными на этих машинах, едят сухари, подвезенные на этих машинах. Эти бойцы – конечное звено цепи. Справедливо ли мое положение? Справедливо своей пользой, своей необходимостью. Так отчего же я всегда чувствую себя виноватым, чужим, чувствую себя «за бортом», когда идет запыленный молоденький пехотинец, когда тяжело прокатываются по шоссе танки, с грохотом отцепляя гусеницы?..» (6 февраля 1945 г.).