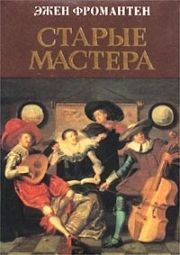Эжен Фромантен - Старые мастера
Это вид местности недалеко от Амстердама. Маленький город Харлем проглядывает синеватым темным силуэтом сквозь листву деревьев., теряясь под огромным, волнующимся облачным небом, в дождливой дымке над тонкой полосой горизонта. На переднем плане — только прачечная с красноватыми крышами, с разостланными на лужайках холстами. Не представить ничего наивнее и беднее, чем эта исходная точка, и в то же время нет ничего правдивей. Надо вглядеться в это полотно высотой в 1 фут 8 дюймов, чтобы поучиться у мастера, который никогда не боялся унизиться (так как ничто не унизит такого человека), как возвысить сюжет, если сам обладаешь возвышенным умом; чтобы понять, что нет ничего безобразного для глаза, умеющего видеть прекрасное, ничего мелкого для большого чувства, — словом, постичь, чем может стать живопись в руках человека благородной души.
«Вид реки» в музее ван дер Хопа — последнее выражение этой гордой и величавой манеры письма. Эту картину лучше было бы назвать «Ветряной мельницей»: под таким наименованием она никому не позволила бы больше браться к своей невыгоде за этот сюжет, нашедший под кистью Рейсдаля свое несравненное типическое выражение.
В нескольких словах вот что изображено. Уголок реки, вероятно, Мааса. Направо уступы берега с деревьями и домами, над ними высится на полотне черная мельница с подставленными ветру крыльями. Сваи, о которые тихо плещут волны реки, вода, написанная приглушенно, мягко, изумительно. Краешек теряющегося вдали горизонта — очень легкий и очень прочный, очень бледный и очень отчетливый; над ним поднимается белый парус лодки, плоский, не раздуваемый ветром, написанный в нежных, изысканных валерах. Надо всем этим большое, покрытое облаками небо с просветами бледной лазури. Тяжелые серые облака поднимаются прямо от свай до верха полотна. Можно сказать, нигде нет света в этой мощной тональности, составленной из темных коричневых и мрачных грифельных тонов. Единственный проблеск света — луч в центре картины, издалека озаряющий, как улыбка, диск облака. Это большая квадратная картина, степенная (говоря о Рейсдале, можно не бояться таких слов) и поразительно звучная в самом низком регистре. В моих записках прибавлено: «чудесна в золоте». Я настойчиво обращаю на это ваше внимание, чтобы показать вам, что, помимо ценности деталей, красоты формы, величавости выражения, интимности чувства, это еще и красочное пятно, на редкость внушительное даже с чисто декоративной точки зрения.
Таков весь Рейсдаль: горделивые манеры, мало обаяния, проявляющегося разве что случайно, но большая притягательная сила, проникновенность, раскрывающаяся только постепенно, совершенное мастерство и очень простые средства. Вообразите себе его, похожего на собственную живопись, постарайтесь представить его самого рядом с его картинами, и вы увидите, если я не ошибаюсь, двойной, но внутренне вполне согласованный образ молчаливого строгого мечтателя с горячим сердцем и лаконическим умом.
Я читал где-то, что творчество Рейсдаля подобно элегической поэме с бесконечным числом песен: так явно обнаруживается в нем поэт сквозь всю сдержанность его формы и несмотря на сжатость его языка. Этим сказано очень много, особенно если принять во внимание, как мало литературы содержит в себе это искусство, в котором техника имеет такое значение, а материалы — такой вес и такую ценность. Элегический или нет, Рейсдаль, во всяком случае, поэт. Но если бы он был писателем, а не живописцем, то, как я подозреваю, писал бы скорее прозу, чем стихи. Стихи допускают слишком много фантазии и ухищрений, проза же обязывает к полной искренности, так что этот правдивый и ясный ум, несомненно, предпочел бы прозу стихам. В глубине же своей натуры это был мечтатель, один из тех людей, каких много в наше время, но редких в эпоху, когда родился Рейсдаль. Он — один из тех одиноких любителей прогулок, которые бегут из городов, предпочитают окраины, искренне любят деревню, чувствуют природу без напыщенных восторгов, рассказывают о ней без фразы. Их волнуют далекие горизонты, восхищают широкие равнины, их возбуждает мрак и чарует солнечный луч.
Рейсдаля не представляешь себе ни очень молодым, ни очень старым. В нем незаметно ничего юношеского и ничего, что бы говорило об изнурительной тяжести лет. Доже не зная, что он умер, когда ему не было еще пятидесяти двух лет, мы представили бы его себе человеком среднего возраста, зрелым или преждевременно созревшим, очень серьезным, рано привыкшим владеть собой, полным мечтательных печальных воспоминаний и сожалений, свойственных тем, чей взгляд обращается назад, к прошлому, и кто в юности не знал мучительных тревог п надежд. Не думаю, чтобы он был способен воскликнуть: «Поспряньте, желанные бури!» В его меланхолии — а он полон ею — нет ни бурного ребячества первых лет, ни нервной плаксивости последних, а есть нечто умное и мужественное. Эта меланхолия лишь окрашивает его живопись в более темные тона, как она могла бы окрасить мысль какого-нибудь янсениста.
Какие невзгоды принесла ему жизнь, что он питал к ней столь презрительное и горькое чувство? Какие обиды причинили ему люди, что он замыкался в полном одиночестве и избегал встречаться с ними даже в своей живописи? О жизни его неизвестно ничего или почти ничего. Ми ниаем только, что он родился около 1630 года и умер в 1681 году, что он был другом Берхема, что у него был старший брат Саломон Рейсдаль, который, вероятно, И Пыл его первым советчиком. Что касается его путешествий, то можно их предполагать и в них сомневаться: его водопады, горные и лесные местности со скалистыми склонами позволяют думать, что он или изучал их в Германии, Швейцарии, Норвегии, или же использовал этюды Эвердингена и вдохновлялся ими. Огромный труд вовсе не обогатил его, и звание гражданина города Харлема, кажется, не помешало ему оставаться совершенно неизвестным. Печальным доказательством этому служит, если верить рассказу, то обстоятельство, что его поместили в госпиталь родного города, где он и умер, поместили скорее из чувства жалости к его бедственному положению, чем из уважения к его гению, о котором никто не подозревал. Какова же была его жизнь до этого? Были ли у него радости — а горя, верно, у него было немало? Дала ли ему судьба случай любить что-либо другое, кроме облаков? От чего он больше страдал — если он когда-либо страдал, — от мук высокого искусства или от жизни? Все эти вопросы остаются без ответа, а между тем потомство очень интересуется ими.
Разве мы стали бы спрашивать столько же о Берхеме, Кареле Дюжардене, Вауэрмане, Гойене, Терборхе, Метсю, даже о самом Питере де Хохе? Нам кажется вполне достаточным знать, что все эти блестящие и очаровательные художники писали картины; Рейсдаль же не только писал — он жил: вот почему так важно знать, как именно он жил. В голландской школе я насчитываю лишь три-четыре имени, интересующие нас, с этой стороны: Рембрандт Рейсдаль, Паулюс Поттер и, может быть, Кейп; да и то, пожалуй, слишком много.
Альберт Кейп
Кейп тоже не был особенно ценим при жизни, что совершенно не препятствовало ему писать так, как он считал нужным, быть старательным или небрежным — как ему хотелось, вообще, следовать на своем свободном поприще мгновенному вдохновению. Впрочем, эту немилость — довольно естественную, если вспомнить о вкусе к чрезвычайной законченности, который тогда господствовал, — Кейп разделял с Рейсдалем и даже с Рембрандтом, когда около 1650 года Рембрандта вдруг перестали понимать. Как видите, художник был в хорошей компании. Позднее за него отомстили сначала англичане, а потом и вся Европа. Во всяком случае, Кейп — превосходнейший живописец.
Его первое достоинство — универсальность. В творчестве Кейпа так полно собраны все стороны голландской жизни, особенно сельской, что уже его размаха и разнообразия вполне достаточно для того, чтобы придать ему значительный интерес. Пейзажи, море, лошади, скот, люди любого круга, начиная с праздных богачей и вплоть до пастухов, маленькие и большие фигуры, портреты, птичьи дворы — на все это распространялись любознательность художника и его талант. Кейп больше, чем кто-либо, употребил свой дар, чтобы расширить поле наблюдений над своей страной, расширяя тем самым и пределы ее искусства. Родившись одним из первых, в 1605 году, Кейп во всех отношениях — по своему возрасту, по разнообразию своих исканий, по силе и независимости приемов — должен был стать одним из наиболее активных зачинателей голландской школы.
Художник, соприкасающийся с одной стороны с Хондекутером, а с другой — с Фердинандом Болем и притом не подражающий Рембрандту, Кейп пишет животных так же легко, как и Адриан ван де Вельде, небо лучше, чем Бот, лошадей, притом крупным планом, строже и правильнее, чем Вауэрман или Берхем пишут их в миниатюре; он живо ощущает море, реки с их берегами, пишет города, стоящие на якоре суда и большие морские сцены с широтой и уверенностью, какими не владел даже Биллем ван де Вельде. Он обладает собственной неповторимой манерой видеть, своеобразным и прекрасным колоритом, мощной и легкой кистью, вкусом к богатым, густым и обильным краскам. С годами художник расширяет свое творчество, растет, обновляется и крепнет. Конечно, такой мастер — человек широкого кругозора. Если же вспомнить еще, что он прожил до 1691 года, пережив, таким образом, большинство из тех, кто родился позднее его, и в течение всей своей долгой восьмидесятишестилетней жизни всегда оставался самим собой (если не говорить об одной очень заметной в его работах черте, заимствованной им у отца, и отсветах итальянского неба, воспринятых им, возможно, от братьев Бот и друзей-путешественников), не знал ни заимствований, ни падений, то следует признать, что Кейп был действительно могучий ум.