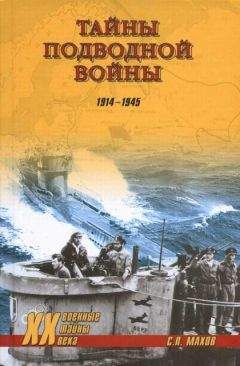Иштван Барт - Незадачливая судьба кронпринца Рудольфа
("Альбом, посвященный памяти Рудольфа", 1897)
ГЛАВА ПЯТАЯ
Лошек (который дожил до преклонных лет и умер в середине тридцатых годов) в разное время по-разному излагал случившееся в Майерлинге. Да это и понятно. С одной стороны, он наверняка боялся, не зная, какая доля ответственности за обе эти смерти будет на него возложена, кто и в каком именно упущении станет его обвинять (его и впрямь отправили на пенсию — ведь мертвый наследник в состоянии оказать лишь слабое покровительство верным своим людям); с другой стороны, тридцати-сорокалетнее молчание (точнее, умолчание, а то и приказ держать язык за зубами) вызывает большие провалы в старческой памяти. А других свидетелей нет. Вернее, мог быть еще один, без помощи которого Рудольф не обошелся бы при осуществлении своего плана, однако он (то бишь Братфиш) до такой степени убит горем, что даже в полиции отделывается односложными ответами. Иными словами, этот свидетель молчит, честно оправдывая свое имя[23]. Но ему, в отличие от Лошека, и не отпущен столь долгий срок, чтобы как следует обдумать происшедшее: года через три-четыре он умирает от рака гортани. По другим, менее достоверным сведениям, в последние месяцы жизни он за пол-литра вина готов был любому посетителю пивной поведать подлинную историю последней ночи Рудольфа и Марии в Майерлинге. Но это неправдоподобно уже хотя бы потому, что под конец жизни Братфиш сделался состоятельным человеком, и ему не было нужды одалживаться у случайных собутыльников. Венские извозчики утверждали, будто Франц Иосиф заплатил баснословную сумму за его молчание, благодаря чему Братфиш и обрел независимость. Но и это только лишь слухи.
Весь смысл сказанного нами сводится к тому, чтобы вновь настроить читателя на подозрительность. Ведь наша история близится к завершению, а нам до сих пор (надо ли говорить об этом?) не ясно, что же произошло в майерлингском охотничьем замке. Постараемся же — насколько это от нас зависит — хотя бы последовательно изложить события. Разумеется, в той степени, в какой они нам известны.
*Итак: на веру — более или менее — можно принять лишь то, что несколькими днями позднее граф Хойос отметил в своих записках: в них хромает орфография, зато все высказывания отличаются канцелярской точностью. Конечно же, и граф вынужден оправдываться (несколько дней все находились под подозрением), однако ему нечего было особенно скрывать. Его-то Рудольф действительно завлек обманом — вероятно, именно для того, чтобы в замке оказался хоть один человек, которому потом при дворе поверят.
Согласно этим записям, последним четким следом можно считать такой факт: после ужина Рудольф ушел лечить свою простуду, но от носовых платков графа Хойоса отказался, полагая, что ему хватит до утра собственных запасов. Было девять часов вечера.
А потом?
Потом Рудольф вошел в спальню со сводчатым потолком, где его с поцелуями ждала Мери, распустив волосы — или было кому завить горячими щипцами, расчесать, заколоть кверху ее густую каштановую копну, доходящую до талии? было кому надеть на нее корсет, застегнуть пуговицы и кнопки, затянуть сзади шнуровку, помочь ей надеть сорочку, блузку, лиф, жакетик и всю ту уйму принадлежностей гардероба, для которых в современном языке не сохранилось названий, но без которых Мария чувствовала бы себя неодетой? — хотя, возможно, Рудольф лишь сказал с порога: "Мы одни", — и девушка наконец-то вышла из своего убежища (в домашних туфельках на лебяжьем пуху? в капоте? или все в том же темно-зеленом платье, в котором она убежала из дома и в котором ее потом похоронят? или она его так и не снимала?). Тем временем Лошек проворно приносит чистые бокалы, наполняет их шампанским (правда ли, что возле трупов валялась разбитая бутылка из-под шампанского?) и подает жареную косулю в холодном виде. Но Мария едва притрагивается к еде (или накидывается на нее с волчьим аппетитом?), Рудольф же садится напротив, по другую сторону стола, и они влюбленными глазами смотрят друг на друга — говорить им особенно уже не о чем. Они чокаются бокалами. В Вене сейчас карнавал в полном разгаре! Жизнь кипит, бурлит! Они же молча, без слов, подбадривают друг друга взглядом — время сейчас остановилось для них, и карнавальная ночь будет длиться вечно.
Чем не дуэт?
Но возможно, Мария в этот момент уже находится при смерти. (При тогдашних методах прерывания беременности в среднем каждый второй случай кончался роковым исходом.) Сепсис, неудержимое кровотечение — врач, тайно привезенный под вечер, лишь бессильно разводит руками. Девушка уже знает, что не дотянет до утра — она совсем ослабла, время от времени теряет сознание. Лошек в нерешительности топчется под дверью: вдруг да он понадобится. Его господин вызывает в нем трепет и удивление — с каким самообладанием держался он во время ужина с графом Хойосом! И даже шутил! Нервы у него прямо железные. Но в услугах Лошека больше нет нужды. Из комнаты доносятся тихие голоса. Влюбленные прощаются. Рудольф обещает Марии последовать за нею — таков уговор. Затем они пишут письма. Настроение у обоих чуть ли не веселое. Во всяком случае, на душе у них полегчало — впереди полная ясность, никаких неожиданностей. Так оно и к лучшему, все равно им не принадлежать друг другу. Лошек просыпается от звука выстрела.
"В блаженстве уходим мы в мир иной. Думай иногда обо мне. Желаю тебе быть счастливой и выйти замуж по любви. Я не могла этого сделать, но и своей любви противиться была не в силах. С нею и иду на смерть.
Любящая тебя сестра Мери
P. S. He оплакивайте меня, я с радостью ухожу на тот свет. Здесь так красиво, напоминает Шварцау. Подумай о линии жизни на моей ладони. И еще раз: живи счастливо!"
Насколько подлинен этот текст? Ведь оригинал унес с собой в могилу Франц Иосиф. Мать Марии получила адресованные семье прощальные письма лишь для прочтения. Флигель-адъютант дождался, пока она и сестра Марии прочтут каждая свое, а затем отвез их обратно в Бург.
В своих мемуарах баронесса Вечера цитирует письмо дочери по памяти:
"Дорогая мама!
Прости мне содеянное! Я не сумела превозмочь свою любовь. С его согласия мне хотелось бы лежать рядом с ним на алландском кладбище. В смерти я буду счастливее, чем была в жизни".
Вроде бы даже на долю принца Браганцы досталось короткое, в две строчки, письмецо. Мария завещала ему свое знаменитое боа с тем, чтобы он повесил его у себя над постелью. Оба смеются над этой великолепной шуткой: вот уж озадачится претендент на португальский трон, когда будет читать эти строки! Слово привета, как на видовой открытке, припишет там и Рудольф. "Сервус, Мокрый!" — под таким прозвищем был известен португальский принц среди приятелей.
Ну и что же нам делать с этими чуть жеманными, слезливыми — романтическими! — письмами? Кто бы ни писал — раздобыл, сочинил — их, наверняка считал, что влюбленные, избавясь от мук земной юдоли, наконец-то будут принадлежать друг другу в вечном охотничьем замке на небесах. Так верить ли нам в их подлинность?
Марии слегка жутковато — нет, она не боится, а скорее волнуется: хоть бы удалось! Но она полагается на Рудольфа, рука у него надежная, он опытный охотник. Закрыв глаза, она ждет. В руке сжимает, нервно теребя, маленький носовой платочек, отделанный кружевами.
Доктору Видерхоферу потом насилу удастся вытащить его из застывших пальцев.
"Нам очень любопытно взглянуть на загробный мир", — гласит постскриптум одного из вариантов (ведь их тоже несколько) прощального письма. Бедняжку Мери ожидает страшный сюрприз: она и в самом деле отправится на тот свет.
Рудольф настроен не так весело. Он-то на своем веку повидал смерть. Во время охоты он (якобы) имел обыкновение подолгу смотреть в глаза умирающим животным. "Мне бы хотелось хоть раз уловить последний вздох". Стоп! Не стоит углубляться по этому следу, иначе мы заблудимся в дебрях психопатологии и нам придется заново переписывать не только облик Рудольфа, но и всю историю.
Итак, Рудольф если не мрачен, то уж и веселым его трудно себе представить. Он пишет свои прощальные письма очень трезво, можно сказать, по всем правилам. Но здесь или еще в Бурге? Неизвестно.
"Милая Стефания!
Ты избавишься от моего присутствия. Будь добра к нашему несчастному ребенку, ведь это единственное, что останется от меня. Передай мой прощальный привет всем знакомым, а в особенности Бомбелю, Шпиндлеру, Ново, Гизелле, Леопольду и другим. Я спокойно иду навстречу смерти, ибо лишь так могу сохранить свое имя.
Твой любящий муж Рудольф"
Это письмо — наверняка подлинное, Стефания даже опубликовала его факсимиле. Обычное прощальное письмо. Странно лишь, что нет в нем ни слова о мотивах — только загадочный намек. Никаких упоминаний о неудавшейся любви, о несбыточных надеждах, о разверзшихся небесах. Всего лишь короткий намек. (Который мог бы относиться, скажем, и к карточному долгу.) Автор письма словно бы думал, что этого вполне достаточно и нет нужды в объяснениях: та (те), кому письмо адресовано, и так все поймут. Им будет ясно, почему он совершил самоубийство.