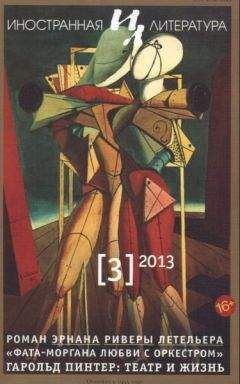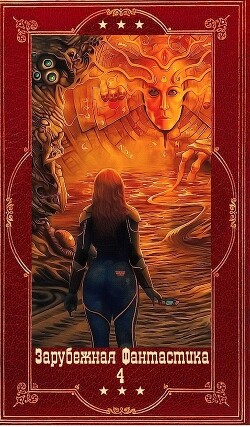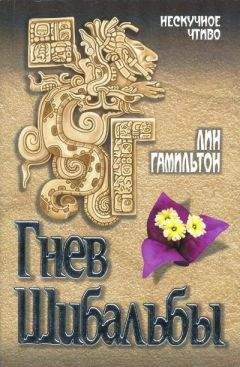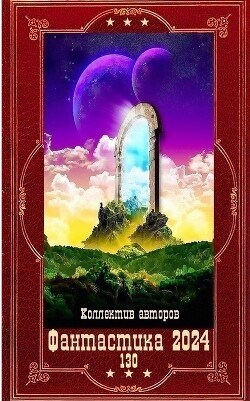Вдали (СИ) - Диас Эрнан Эрнан
Он не желал видеть людей и решил ехать на восток параллельно тропе, в нескольких днях к югу от нее, и свернуть, только когда истощатся припасы. Но он недолго держался курса. Он уходил в свои мысли, и по большей части случайное направление задавал конь. Часто все трое — осел, конь, всадник — просто торчали посреди равнин. Не считая редкого вздоха или вялой попытки отогнать мошку, они вместе неподвижно стояли, глядя в пустоту. Бурые равнины, голубая стена. Хокан словно научился таращиться в пространство у своих животных, с их безмятежно печальными глазами навыкате. От себя он к этому отсутствующему выражению прибавил отвалившуюся челюсть. Они просто стояли, совершенно погруженные в ничто. Время сливалось с небом. Пейзаж и зрители почти ничем не отличались друг от друга. Просто одно неразумное в другом. И внезапно Хокан выходил из долгого ступора, сверялся с компасом и снова трогался, только чтобы уйти в пустые мысли мгновение спустя и снова передать управление гнедому. Он почти не ел — кусок сушеного мяса, галета.
По ночам разжигал мелкие костры. Сон не шел. Он потерял счет времени и не представлял, где находится. И все же верил, что благодаря удаче и стараниям достигнет Нью-Йорка через несколько недель. Но не рвался туда. Мысли слабели, пока не стали лишь летаргическими судорогами в густом тумане, помрачившем его сознание. Рассудок понемногу затихал до бормотания и наконец замолчал.
Хокана подмяла ненасытная всепоглощающая пустота — снедающая тень, стирающая мир на своем пути, неподвижность, не имевшая ничего общего с покоем, хищная тишина, жаждущая полного запустения, заразное ничто, колонизирующее все. В беззвучном бесплодье, где она прошла, осталась лишь почти незаметная вибрация. Но без всего остального и этот слабый гул был невыносим. Хокану недоставало ни воли, чтобы его прекратить (хватило бы, наверное, какой-либо простой задачи — держать курс или готовить еду), ни сил его терпеть. Собрав в кучку последние ошметки сознания, он нашел более-менее гостеприимное местечко с водой, окруженное приличным пастбищем. Оставил коня и осла на длинной привязи, открыл жестяной футляр и принял несколько капель успокоительного средства Лоримера.
Несколько мгновений — таких мимолетных — он не имел значения, и это не имело значения. Было небо. Было тело. И планета под ним. И все было замечательно. И не имело значения. Он еще никогда не был счастлив.
И это не имело значения.
Рядом, подобно сфинксу, вытянулся осел. Он подумал, что это сон, потому что никогда не видел осла лежащим. Они смотрели друг на друга. На горизонте гудел рассвет, но сколько ночей ему предшествовало, Хокан не знал. Пронзительный жар добрался до костей. Очертания, определявшие предметы вокруг — куст, животные, ноги, — казались хрупкими. Покалывающее тело — полым. Он подошел к пруду и напился мутной жирной воды. Проследив, что у животных есть все, что нужно, перекусил мясом и куском сахара. Из одеяла, седла и пары сумок соорудил простое убежище от солнца. Заполз в него и принял еще успокоительного.
Но на сей раз не испытал блаженства незначимости. Он просто угас. Глаза закатились, но он с удивлением обнаружил, что все еще видит в темноте. Глаза уставились внутрь его черепа, на его мозг. Частичкой восприятия, не занятой зрением, он понял, что мозг получает изображения самого себя от привязанных к нему глаз. Мозг не сразу осмыслил, как это необычайно.
«Какой еще мозг видел сам себя?» — подумал мозг.
Еще он думал, что его извилины, цвет и текстура уникальны и совершенно не похожи на все другие мозги, изученные в прошлом. На миг вертиго от изображения себя в себе взволновало и даже увеселило. Потом мозг подумал, что ему бы стоило присмотреться и учиться. И тогда его поверхность из серой стала бурой. Жемчужные волны, не меняя формы, превратились в щетинистые холмы, а студенистая поверхность огрубела от песка и полыни. Из-за глаз вышло стадо бизонов и побрело через холмы.
Теперь Хокан понял, что видит сон, и потерял интерес. Отдался аннигиляции.
Шаткое убежище рухнуло, одеяло обернулось вокруг туловища. Грудь и шею жалил ползучий пот. Был день. Какой-то день. Пруд съежился до лужицы солоноватой воды. Безо всяких на то причин привычный клочок земли, где он провел много времени, теперь опротивел. Не хотелось оставаться, но и не хватало силы воли уйти. Единственный выход из апатии, думал Хокан, — углубить ее еще больше, вновь угаснув с парой капель средства. Впрочем, из-за отсутствия воды для животных снова устраниться надолго было невозможно. Слабыми неверными руками он навьючил осла, оседлал коня и двинулся в путь, зудя от солнца, пота и укусов насекомых. Расчесывая лицо, он заметил, что борода уже пышная и густая.
На следующее утро земля затвердела от заморозков. Небо опустилось, солнце потеряло решительность. Хокан знал, что поселенцы предпочитают для путешествия теплое время года, а значит, тропа скоро обезлюдеет. Пора было поворачивать на север и восполнить запасы до конца поездки, пока не настала зима. Он не торопился, надеясь по пути восстановить силы и ясность ума. Холодный воздух прорезал голову насквозь. Каждый вечер он как следует ужинал, старался держаться в тепле и хорошенько высыпаться. Отправлялся на заре, всегда — неспешным шагом, щадя животных. Когда он ожидал их меньше всего, его с ошеломительной яркостью накрывали, словно бесшумные взрывы, картины резни, истирая материальную действительность вокруг, — он часто ловил себя на том, что повторяет события того дня (то он просто едет на коне, а то внезапно потрясает невидимым ножом, или закрывает глаза тыльной стороной ладони, или вскрикивает, или пригибается). Хотя гул, постоянная вибрация, не оставляющие его со времен расставания с караваном, никуда не делись, теперь это хотя бы не мешало мыслить и слышать самого себя.
Неизвестно, как долго он пробыл в одиночестве: долгие периоды отсутствия, дни под воздействием снадобья и общее безразличие к окружению делали любые подсчеты напрасными. Но воздух остыл, а дни укоротились, и потому он решил, что блуждает уже несколько недель. Он ускорил шаг, чтобы не упустить на тропе последних отстающих, пока заморозки не ударили по-настоящему, и уже через несколько дней разглядел прерывистую линию куцего каравана. Он медленно приблизился и какое-то время ехал вдоль фургонов, держась на расстоянии в несколько сотен шагов. Обоз был не так населен, и, в отличие от прежних, месяцы назад, между партиями хватало промежутков. Дав поселенцам время разглядеть, что он один и безобиден, Хокан повернул к тропе. Он уже привык к тому, как себя ведут при виде незнакомца на равнинах. Знал и о впечатлении, производимом его нарядом, а прежде всего — ростом. Впрочем, на сей раз что-то изменилось. Обычное изумление пронизывалось узнаванием. Они смотрели на него с тем особым прищуром, с которым стараются разглядеть прошлое, словно находили его смутно знакомым, но не могли вспомнить откуда. Между тем одни кучковались с лопатами и топорами. Другие брали ружья. Женщины собирали детей. Вооруженные поселенцы сели на коней и выехали навстречу Хокану. При их приближении он поднял руки и сделал на гнедом круг, чтобы показать, что он безоружен. Они остановились на почтительном расстоянии друг от друга.
— Ты Ястреб? — спросил один.
И после этой пары слов мир перевернулся. Как это возможно? Откуда эти люди в глуши знают его имя? Разряд удивления защекотал кожу изнутри и пропал, уступив место ужасному осознанию. Быть может, история о его делах дошла от партии Джарвиса до тропы, а там передавалась от фургона к фургону. Правда страшна сама по себе, но кто знает, как ее вдобавок исковеркали в пути? Он не знал, как отвечать. Лгать проку не было — слишком уж примечательна его внешность.
— Хокан, — ответил он. — Я Хокан.
— Точно, Ястреб, — заявил кто-то. — Это ты их всех убил.
Хокан опустил глаза. Впервые со времен резни он почувствовал что-то кроме боли и вины. Стыд. Он бы променял свою му́ку на стыд чуть ли не с облегчением, если бы унижение не жгло так больно. Пристыженный, опозоренный, грязный. Замаранный в чужих глазах.