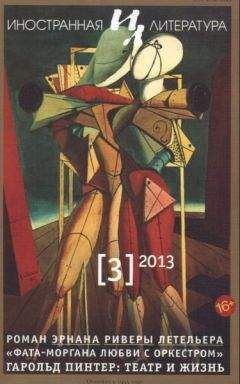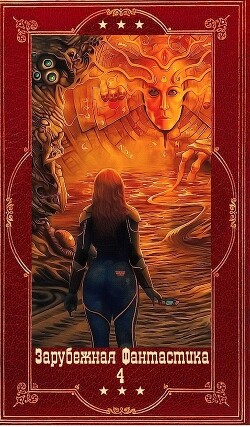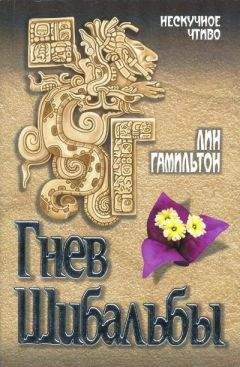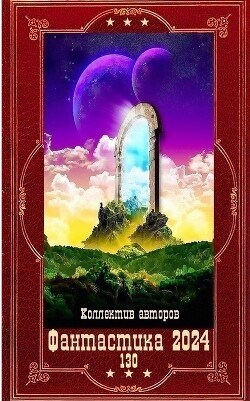Вдали (СИ) - Диас Эрнан Эрнан
В конце концов стало понятно, что каждый третий раненый умрет. Их раны радужно переливались от гангрен, а мозг пожирали инфекция и жар. Коротковолосый готовил их к уходу, тщательно обмывая, расчесывая волосы и нанося масло с запахом сирени. Если раны позволяли, облачал соплеменников в те немногие ценности, что бросили грабители: раскрашенные камешки, перья и резные кости (то, что осталось именно это, лишний раз подтвердило, что напали белые — вусте). Тем, кому хватало сил стоять, по сменам молились за умирающих. Они напевали что-то вроде колыбельной почти неслышным мычанием. Удивительная песня — не только своей красотой (ее мягкость была больше связана с осязанием, покалывающим воздухом, чем слухом), но и во многом — длиной и композицией. У нее не было припева. Ни одна часть мелодии (или, насколько мог уловить Хокан, слов) не повторялась. Она все струилась изменчивым ручейком. И пели ее днями напролет в группах по трое или четверо, хором, не упуская ни ноты, ни паузы, ни слова. Когда заканчивалась одна смена, другая подхватывала без малейшего перерыва или перехода. И всякий раз, кто бы ни пел, соблюдалась поразительная точность — без единого зримого сигнала для перемен, будто их ртами управлял единый разум (Хокану вспоминались стаи, когда сотни птиц или рыб резко сменяли направление, вспархивая и всплывая ровно в одно и то же время безо всякого предупреждения). Если песня и шла по кругу, то изгиб был таким длинным и незаметным, что повторы не цепляли слух. Но будь то бесконечная песня или мелодия, выдуманная неизмеримо долгими хорами, Хокан с трудом представлял себе, как возможен такой подвиг памяти. Ему приходило в голову, что певцы сочиняют на ходу, обмениваясь каким-то кодом, — к примеру, за определенным звуком определенной длины могла следовать лишь определенная нота определенной продолжительности (и то же относилось к словам), так что мелодия и стихи целиком заключались в семени первых нот и слов. Но эта система не объясняла богатство и сложность колыбельной, а если и объясняла, свод правил было бы запомнить не проще, чем бесконечную песню.
Умер первый пациент. Его все больше корежила инфекция, пока не задушило насмерть острое воспаление шеи и головы. Опустив ему веки, натуралист посмотрел на лагерь и на своего подопечного с заметным опасением.
— Надеюсь, они понимают, что мы старались как могли, — пробормотал он.
Отклик племени на смерть этого молодого человека удивил: его друзей и родных не разгневал такой итог лечения. Ни злости, ни жалобного плача, ни даже слез. Хокан поразился, насколько их траур походил на то, как скорбят в Швеции. Он отчетливо помнил смерть младшего брата. Родители и немногие далекие родственники демонстрировали на похоронах ту же скудную печаль, что и эти люди, теперь ходившие вокруг покойника с таким видом, будто его не замечают. Их суровые лица словно намекали, что скорбь попросту превосходит мир известных чувств и, следовательно, в знакомых выражениях боли нет нужды. Их глаза не туманились от слез, а непокорно ожесточились, тихий гнев не давал смотреть друг на друга. Коротковолосый раздел труп. Те, кто случился поблизости, разделили его вещи, которые им подходили. Тело переложили на полотняные носилки и унесли в закат. Никакой похоронной процессии — только коротковолосый и его товарищ с носилками. Оставшиеся как будто позабыли покойника, стоило ему скрыться из глаз. Вернулись к своим делам, переговариваясь как ни в чем не бывало. Их взгляды смягчились.
Убедившись, что пациентов можно ненадолго оставить без присмотра, Лоример последовал на почтительном расстоянии за носильщиками. Хокан присоединился. Они прошли километров пять по упрямой пустыне. Пыль. Полынь. Небо. Время от времени — намек на разговор носильщиков. Солнце садилось без фанфар — просто вдруг стемнело. Оловянный лунный свет был не больше чем ароматом в ночи. Вдруг — на месте, ничем не отличавшемся от любого другого, — носильщики остановились, сняли тело, сложили носилки и безо всякой церемонии развернулись и ушли. Остановились рядом с Лоримером и Хоканом и предложили им сушеное мясо и глянцевую мякоть кактуса — первая сладость в их рту за многие месяцы. Сжевав наконец неподатливое угощение, они переглянулись, словно надеялись, что кто-то заведет разговор. Коротковолосый взглянул на убывающую луну. Взглянули и Хокан с Лоримером. Человек с носилками — нет. Коротковолосый что-то сказал, что Хокан перевел для себя как «ну ладно», и направился с товарищем обратно к поселению. Лоример кивнул Хокану, и они подошли к телу. Он еще не видел ничего настолько мертвого, как изувеченный труп, брошенный между ночью и пустыней. Гниющий, забытый, уже почти ничто.
— «И будут трупы твои пищею всем птицам небесным и зверям, и не будет отгоняющего их» [7] — подумать только, и это одно из самых страшных проклятий Бога. Но задумайся. Ни могилы. Ни сожжения. Ни обрядов. Мясо для чужих клыков, — произнес Лоример с отголоском былой страсти. — Можешь себе представить? Можешь себе представить облегчение? Сумеем ли и мы хотя бы посмертно увидеть тело без толики суеверий, голым, какое оно и есть? Материя и больше ничего. Увлекшись дальнейшим существованием ушедших душ, мы и забыли, что бессмертными нас, напротив, делают кости и плоть. Практически уверен, что его не стали хоронить, чтобы облегчить переход в птиц и зверей. К чему памятники, мощи, мавзолеи и прочие тщеславные спасения от тлена и забвения? Есть ли дар величественнее, чем накормить собой соседей по миру? Есть ли монумент благороднее, чем живая гробница койота или парящая урна падальщика? Что сохранит тебя надежнее? Что воскресит буквальнее? Вот истинная религия — знание, что меж всем живым есть связь. Стоит это осознать, как уже не о чем скорбеть, ведь, хоть ничего не вернуть, ничего на самом деле и не утрачено. Можешь себе представить? — спросил Лоример вновь. — Облегчение. Свобода.
В следующие дни скончались еще четверо, и каждого унесли в пустыню в сумерках.
Выжившие исцелились. Нескончаемая колыбельная прекратилась. Пускай изувеченные и искалеченные, но все пришли в сознание, а если их и мучила боль, то им хватало сил ее скрывать. Среди калек был и тот, что пытался зарезать Лоримера. Заражение прокралось от его лодыжки — этого смерча костей, жил и мяса — вверх по икре, и ногу пришлось отнять ниже колена. Восстановив силы, он сразу призвал Лоримера к себе. Сел с великим усилием и гримасой боли. Переведя дух, он произнес серьезную речь — краткую, но прочувствованную. Договорив, он высыпал содержимое кожаной торбы. На его ладонях лежали две дюжины зубов, целые и с корнем, одни — посеревшие, другие — пожелтевшие, все — матовые и огромные. Один занимал всю его ладонь.
— Ужасные ящеры, — сказал Лоример с рассеянным восхищением. — Вымершие рептилии. Подобные драконам существа, сгинувшие, стертые с лица земли вскоре после зари времен.
Некоторые зубы были поломаны или сколоты, но калека показал несколько больших в превосходном состоянии. Он посмотрел на Лоримера и протянул свои сокровища, присовокупив торжественное слово. Лоример отказался. Калека с жаром настаивал. Это повторилось несколько раз, пока натуралист не понял, что отказ от подарка — не только большое оскорбление, но и вреден для здоровья пациента: спор выпил из него почти все силы. Лоример принял зубы, и индеец откинулся на спину с физическим и духовным облегчением. Лоримера подозвала индианка по соседству и сама достала кошель. У нее зубов было меньше, и всего один, продемонстрированный с большой гордостью, безукоризненный. И снова Лоримера, исцелившего ее пулевое ранение в живот, просили принять сокровища. Один за другим пациенты подзывали его и с короткой церемониальной речью вручали россыпи драконьих зубов. Никто не был так богат (ни по качеству, ни по количеству), как первый с ампутированной ногой. На пути через импровизированную палату Лоримеру пришлось собирать подношения в шляпу. Скоро горка беловатых осколков напоминала уже не зубы, а какого-то неизвестного науке моллюска или патроны для еще не изобретенного оружия.