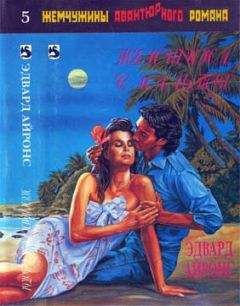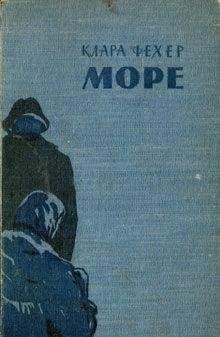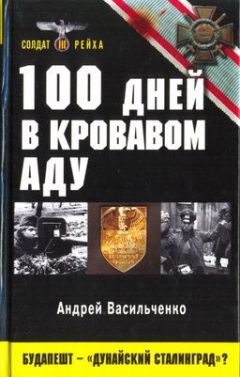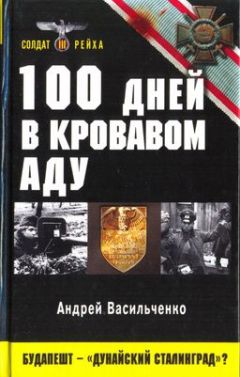Анна Чайковская - Триумф красной герани. Книга о Будапеште
«Куда девался тот мир, когда специально для Франца Иосифа пекари в Пеште месили и пекли хлеб? Когда за тем, чтобы в пекарне работники не чесали себе уши и пальцы на ногах, следила тайная полиция? Капут. Дурак всякий, кто пережил Франца Иосифа».
Дюла Круди. Boldogult úrfikoromban«Трижды нет!»
Так расшифровывается в Венгрии слово «Трианон», для остального человечества означающее всего лишь название версальского дворца. И без упоминания о нем будапештский характер понятен не будет.
Добившись равенства с Австрией (и обойдя соседей по империи), построив роскошную Оперу, величественный Королевский дворец, шикарное кафе «Нью-Йорк», открыв линию метро и купальни-термы, под стать древнеримским, с пафосом отпраздновав Миллениум, Будапешт так и дожил в настроении умеренного оптимизма и наглядно растущего благополучия до 1914 года.
За благополучием, однако, скрывались проблемы, решить которые сил не имелось ни у кого. Трагедия Австро-Венгрии заключалась в том, что она строилась как многонациональное государство именно в тот период европейской истории, когда на первый план вышли вопросы не имущественные, не религиозные, как в годы Реформации, не классовые даже, но именно национальные. С прочими стоявшими перед ней задачами империя в общем и целом справилась, обеспечив подданным полвека сравнительно мирной, сытой и безопасной жизни. С этой – не смогла, хотя о «тюрьме народов» в отношении ее говорить по меньшей мере несправедливо. Как пишет историк Ярослав Шимов, «можно вести речь скорее об «инкубаторе народов», в котором были созданы достаточно благоприятные условия для культурного, экономического, а затем и политического развития множества этносов и постепенного превращения их в современные нации. К началу ХХ века «гнездо» стало тесным для «птенцов», Первая мировая довершила дело, и «инкубатор народов» был разрушен»[78].
При этом Венгрия сама функционировала как Австро-Венгрия в миниатюре, будучи той ее частью, что подобна всей фигуре в целом, как фрактал. Для хорватов, евреев, словаков, цыган, румын и других составляющих Венгрию народов венгры были тем же, чем для них самих – австрийцы: привилегированной нацией, элитой, учителями, начальниками, притеснителями и цивилизаторами. Теми самыми нелюбимыми «старшими».
Далее – Первая мировая и поражение Австро-Венгрии.
В обстановке повсеместного хаоса последних месяцев Великой войны парламент Венгрии 17 октября 1918 года расторг унию с Австрией и провозгласил независимость страны. Через месяц Карл I, второй после Франца Иосифа и последний император Австро-Венгрии, объявил, что «отстраняется от управления государством». Австро-Венгерская монархия перестала существовать. Дело было не только в военном разгроме: внутри самой монархии центробежные силы, долгое время сдерживаемые, возобладали над идеей «общего дома». Спустя год страны-победительницы подписали Версальский договор, официально завершивший Первую мировую войну, а еще через год – Трианонский договор с Венгрией. По нему страна лишалась двух третей своей бывшей территории и около 60 % населения (в том числе трех миллионов этнических венгров), 88 % лесных ресурсов, 83 % производства чугуна и 67 % банковско-кредитной системы. Из Венгрии «по живому» вырезали территории для Чехословакии (Словакия до 1920 года числилась «Верхней Венгрией», Братислава была известна как Пожонь или Прессбург), Румынии (ей отошла Трансильвания), Королевства сербов, хорватов и словенцев, позднее ставшего Югославией, и Австрии, а также Италии и Польши. При этом стране запрещалось отказываться от суверенитета, то есть пытаться вновь объединяться с Австрией, и содержать армию численностью свыше 35 тысяч пехотинцев.
В тот день, когда в Большом Трианонском дворце Версаля был подписан договор, сотни тысяч протестующих граждан вышли на улицы Будапешта. Затем страна погрузилась в траур. Катастрофа коснулась каждого, и помощи ждать было неоткуда. Такого просто не бывало раньше – никогда и ни с кем. Все флаги в стране были приспущены до 1938 года. Каждый учебный день начинался с молитвы о восстановлении родины в прежних границах. Историки фиксируют: «Этот день превратился в кошмар, всегда преследовавший сознание и память венгров». Всеобщее потрясение, как всегда, высказали в словах поэты. Строчка из стихотворения Аттилы Йожефа «Nem, nem, soha!» («Нет, нет, никогда!») стала выражением мыслей и чувств каждого венгра – и тех, что остались внутри новых границ, и тех, что оказались за пределами родины.
Как пишет Ласло Контлер, Трианон «потряс даже наиболее жестких критиков темных сторон довоенного режима в Венгрии и его национальной политики. Для них шок оказался особенно глубоким потому, что в большинстве своем они были выходцами из политически прогрессивного лагеря, хорошо относившимися к западным либеральным демократиям, единственно ответственным за их собственную политическую гибель. Трагедия последствий Первой мировой войны и Трианонского мира обусловливалась не столько тем, что эти события несли на себе печать роковой неизбежности, сколько парадоксальным стечением обстоятельств, из-за чего сохраниться сумели как раз те самые силы, которые и привели страну к войне и были виновны в ее финале»[79].
И еще (это позиция венгерского историка, видящего ситуацию изнутри, и уже потому важная для понимания Венгрии): «Венгерское национальное самосознание было скроено по образцу, вполне соответствовавшему мироощущению граждан среднего по размерам государства с 20–30-миллионым населением, в котором мадьярский приоритет базировался не только на вульгарных принципах статистического большинства и расовой принадлежности, но и на исторических и политических достижениях нации. Такое самосознание испытало ужас ментальной клаустрофобии, когда его заставили втиснуться в узкие пределы маленькой страны, населенной всего 8 млн. граждан. Нацию охватили чувство ярости и жажда мести, спрессованные в лозунг: «Нет, нет, никогда!» И поскольку послевоенное мироустройство на континенте было явным образом далеко от совершенства, ни одна политическая сила, рассчитывавшая на успех в Венгрии в межвоенный период, не имела возможности появиться на общественной сцене, если в ее программе не содержалось требований по пересмотру условий мирных договоров. Этого требовали и консерваторы из старой политической элиты, господствовавшие в Венгрии в течение всего периода консолидации 1920-х годов, и крайне правые силы, чередовавшиеся у власти с консерваторами на протяжении 1930-х годов и во время Второй мировой войны. По вполне понятным причинам Венгрия вновь вступила в войну в союзе с Германией и вновь потерпела сокрушительное поражение»[80].