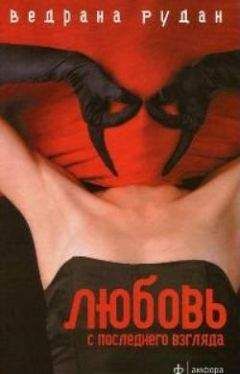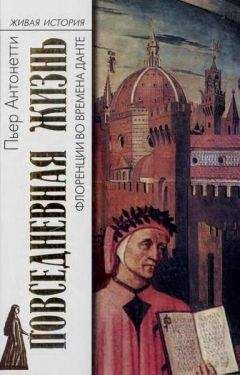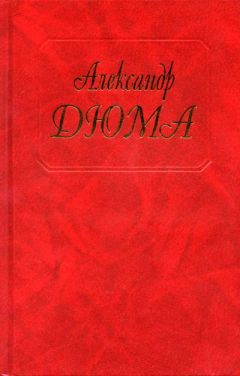Камни Флоренции - Маккарти Мэри
По словам Макиавелли, при Лоренцо молодежь посвящала все свое время играм и ухаживаниям, «стремясь поразить всех роскошью платья и достичь высот искусного красноречия». Наверное, и Франческо деи Пацци, один из основных участников заговора Пацци, хотя ему уже исполнилосьтридцать два года, был именно таким giovanotto (юношей) — холостым, щеголеватым, самолюбивым, надменным, ревнивым и страстным. История заговора или, вернее, странного поведения Франческо, позволяет представить себе ту двойственную, граничащую со страстью жестокость, которая таилась за тщательно продуманной хитростью. Заговорщики планировали убить двух молодых Медичи, Лоренцо и его брата, красавца Джулиано, на воскресной мессе в Дуомо; удар предполагалось нанести в тот момент, когда священник возьмет в руки причастие. Чтобы убедиться, что Джулиано, которому нездоровилось, в это утро точно пойдет к мессе, Франческо деи Пацци и его сообщник зашли за ним во дворец Медичи — точно так же, как в наше время два молодых флорентийца могут заскочить за приятелем по дороге в Дуомо. Джулиано охотно пошел с убийцами, а те, чтобы не допустить даже малейших подозрений, всю дорогу до собора развлекали его шутками и оживленной беседой. Франческо то и дело обнимал и нежно гладил Джулиано, возможно, желая убедиться, что у него под одеждой не надета кираса. Судя по всему, эти нежности носили преувеличенный характер, потому что позже о них часто вспоминали. В Дуомо же все получилось не так, как было намечено. Пацци и их друзьям удалось убить Джулиано, но Лоренцо они только ранили, и он сумел прорваться в Старую сакристию, справа от алтаря, и укрылся за запертыми дверями ризницы. Тем временем Пацци покинули собор и обнаружили, что горожане обратились против них. Все заговорщики разбежались кто куда, а Франческо просто отправился домой, где его и нашли: он лежал в постели, обнаженный, истекающий кровью, с глубокой раной на ноге, которую он случайно сам себе нанес в Дуомо, когда, опьяненный жаждой убийства, прокладывал себе путь в толпе. Так, голого, его и приволокли в Палаццо Веккьо и повесили. От него не добились ни слова, рассказывал Макиавелли, «но он спокойно оглядел стоявших вокруг людей и молча вздохнул». Семья Пацци, добавляет Макиавелли, славилась своей гордостью.
Поведение Лоренцино («Брута») Медичи в отношении Алессандро, убитого им дальнего родственника, также отличалось большими странностями. Алессандро участвовал во всех безобразиях и дебошах, чинимых молодым герцогом. Они вместе ходили по борделям и врывались в монастыри; Лоренцино похищал для Алессандро уважаемых замужних женщин. Часто их можно было увидеть скачущими вдвоем на одном коне по улицам Флоренции. По сути дела, флорентийцы не делали между ними различий и обоих считали кровопийцами и выродками. Убив Алессандро, Лоренцино решил оставить на теле тирана записку, чтобы объяснить свое преступление политическими мотивами. «Vincit amor patriae» {25}, — гласила записка на латыни; однако для многих, хорошо знавших Лоренцино, это показалось неубедительным. Притворство могло довести Лоренцинодо нелепых крайностей, когда он превращал лицемерие в искусство, вычурную театрализованную мимикрию, в чем порой даже не было необходимости. И в этом тоже проявляется гибкость флорентийцев. Для народа, предрасположенного к творчеству, притворство пагубно; актер теряет ощущение действительности, или, что еще хуже, сам превращается в персонаж, которого играет.
Впрочем, лицемерие, широко распространенное в эпоху Возрождения, вовсе не было характерно только для Флоренции, тем более что по своей природе флорентийцы прямолинейны и лаконичны: «Cosafatta, capo ho». «Кто кончил — дело справил», — так Моска деи Ламберта, встреченный Данте в восьмом круге ада среди зачинщиков раздора, призывал к убийству молодого Буондел ьмонте деи Буондел ьмонти у подножия статуи Марса. Под хитростью (astuzia), ценимой очень высоко, подразумевали скорее дальновидность банкира или ловкость купца, нежели коварство дипломата. Флорентийцы, за одним-единственным исключением (Лоренцо Медичи), никогда не были сильны в дипломатии.
Есть нечто общее в обеих рассказанных нами странных историях — это глубокая внутренняя неуравновешенность. Юдифь и Олоферн служили излюбленной темой для флорентийского искусства, но на практике тираноубийство вызывало смешанные эмоции. В этом олигархическом обществе, где примерно каждые сто лет, словно эпидемия чумы, возникала демократия, отношение к общественным деятелям, тиранам или благодетелям, менял ось так же внезапно, как меняется направление ветра при сильном лесном пожаре. Данте представлял флорентийскую политику с ее бесконечными поворотами в виде больного человека, который пытается найти удобное положение в кровати. Переменчивость мнений может довести чувствительного политика до сумасшествия. Во времена Козимо Старшего коллеги некого чиновника, занимавшего высокий пост в суде, так высмеивали какое-то его непопулярное предложение, что он лишился рассудка и был вынужден подать в отставку. Из одной крайности в другую металась не только толпа. Любой индивидуум был также подвержен сменам страстей или вспышкам варварства, словно внутри него сидела целая банда. И все это соотносится с таким явлением, как религиозное переобращение, распространившимся во Флоренции настолько, что его впору было воспринимать как местную патологию — вроде зоба у жителей высокогорий. Интеллектуалы и творческие личности были особенно подвержены этой напасти. К числу тех, кого обратил в свою веру Савонарола, были Пико делла Мирандола, Фра Бартоломео и Лоренцо ди Креди, отдавшие свои работы для «Сожжения Суеты», а также, согласно легенде, и сам Лоренцо Медичи.
Боттичелли, как считают некоторые писатели, тоже стал «плакальщиком» («piagnone»; это презрительное прозвище закрепилось за последователями приора Сан Марко), пусть и после того, как Савонаролу предали мученической смерти. В Лондонской Национальной галерее находится «таинственная картина» Боттичелли, известная под названием «Мистическое Рождество», которую можно интерпретировать как загадочный намек на мученичество и пророчества монаха. Пророчества Савонаролы случайно были, если можно так выразиться, заново открыты во время осады Флоренции; Синьория привлекла не только мудрую сестру Доменику, но и разных монахов, чтобы растолковать предсказания, содержащиеся в туманных изречениях приора. «Gigli con gigli douer fiorire» {26} — все вдруг вспомнили эти слова Савонаролы и сочли, что они призывают к союзу с Францией (лилии с лилиями); не самая лучшая идея и совсем уж не своевременная, так как совсем недавно испанская власть показала, на что она способна, разграбив Рим [67]. Синьория и народ также напоминали друг другу еще одно предсказание Савонаролы: Флоренция потеряет все, но спасется. Памятуя об этом изречении, флорентийцы любую катастрофу рассматривали как предвестие окончательной победы — так было, например, когда они потеряли Эмполи. Благополучно отправив монаха на костер, Республика теперь возложила на него все надежды. Иисуса Христа провозгласили Царем флорентийцев, и люди действительно уверовали в том, что ангелы явятся с небес, поразят врага и спасут их Священный Город, который папа Бонифаций VIII называл «пятой стихией», а кардинал Пьетро Дамиани — «новым Вифлеемом».
Неизвестно, действительно ли Боттичелли, вслед за Фра Анджелико и Лоренцо ди Креди, стал piagnone, а затем раскаялся, как впоследствии Амманати, но его языческие обнаженные фигуры, вся атмосфера его поздних работ пронизаны горечью. Видимо, в душе художника, судя по всему, человека противоречивого, шла типично флорентийская внутренняя борьба, поскольку в его мастерской, откуда вышло множество томных, мечтательных Дев, в почете были грубоватые шутки и совершенно земные развлечения — burle и buffe fiorentini {27}. После «Весны» и «Рождения Венеры» в его линиях, на первый взгляд по-прежнему сладостно-гибких, по-боттичеллиевски задумчиво-томных, начинает ощущаться нервный, резкий, сухой реализм: легкие золотые завитки тяжелеют, драпировки свисают уныло, навевая скуку, словно длинные, утомительные шарады. В 1480 году он написал для церкви Оньиссанти большую фреску в странных желто-серых тонах, «Святой Августин в келье»; в ней чувствуется мучительная симпатия к этому протокальвинистскому святому. Ко времени создания маленькой картины «Клевета» (1494 г.; Савонаролу сожгут только в 1498) метаморфоза уже завершается. Все фигуры этой неоклассической композиции исполнены злобного, холодного уродства: Невежество и Подозрение подают советы Неправедному Судье с ослиными ушами, восседающему на троне, а Злость подводит к нему Клевету. Сжимая в руке факел Неправды, Клевета тащит за волосы полуобнаженного юношу — Невиновность. Клевету поддерживают Мошенничество и Зависть, вплетающие розы в ее бронзовые волосы. За ними следует Раскаяние — старуха в черном, и Голая Правда с прекрасными длинными распущенными волосами. Величественная, как статуя, она с надеждой протягивает правую руку к Небу. На заднем плане, в проемах тяжелых классических арок, виднеется бледно-зеленое море, вызывающее в памяти, как и фигура Правды, «Рождение Венеры». Это «фоновое» напоминание выглядит как мстительный возврат к раннему Боттичелли аркадского периода; «Клевета» — это Аркадия, пронизанная параноидальной жестокостью.