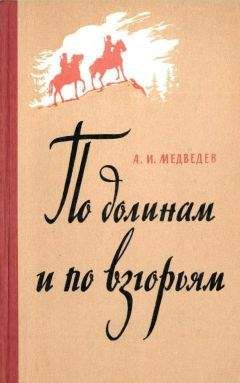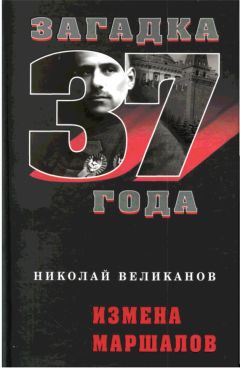Николай Великанов - Красный сотник
— А што в Чите? По всякому... Наше дело — служба. В патрульный наряд пойдешь, увидишь чего-нибудь. А чтоб услыхать — не услышишь. Нам разговаривать-то с народом не положено. Задержали кого — сдали куда следует... Наше дело — служба...
— И правильно, нечего с народом разговаривать. Народ в строгости надо держать. Которые митингуют, прижать, а злостных — нагайками.
Первый хмель резко ударил в голову, но со временем прошел, и Тимофей стал улавливать смысл слов Шукшеева.
— Нагайками?..
— Нагайками, — подливал в рюмку водку Елизар Лукьянович.
Тимофей больше пить отказался, объяснил:
— Мне пора назад ехать. А насчет выпивки в полку строго теперь.
— И правильно, Егорыч, что строго. Дисциплина в армии — первейшее дело. А по нынешнему времени самое наипервейшее.
Елизар Лукьянович предложил Любушке познакомить гостя со всеми шукшеевскими хоромами.
Дом состоял из верхов и низов. На верхах — пять комнат: в четырех жили хозяин с женой, пятая — зала. На низах, в полуподвальных трех комнатах, располагалась прислуга. В одной — конюх-бобыль Максим, во второй — повариха Настя.
Любушка жила в самой маленькой угловой каморке, рядом с кухней а кладовыми. Несмотря на свою малость и небольшое окошко в верхней части стены, каморка выглядела светлой и даже не тесной. Узкая, аккуратно заправленная кровать, шестигранный столик у окна, табурет и плоский сундучок — вот и вся мебель.
Любушка рассказала о себе. Родилась она в Могзоне, здесь, в этом доме. Отца своего не знает, говорят, он некоторое время конюховал у Шукшеевых, а потом сгинул куда-то. Мать, как и она теперь, была в прислуге еще у покойного Лукьяна Саввича — батюшки Елизара Лукьяновича. Померла в позапрошлом году от горячки.
После рассказа девушки дом Шукшеева уже не казался Тимофею уютным и благодатным, а Любушкина жизнь в нем — такой уж счастливой.
...Через некоторое время Тулагину опять выпала оказия побывать в Могзоне. Правда, времени у него было в обрез, но повидаться с Любушкой все же сумел. На этот раз он постучался в дом Шукшеева не с парадного подъезда и не на верхи, а в угловое окошко низов.
Любушка провела его к себе через дворовую калитку. Вид у нее был расстроенный, глаза покраснели.
Тимофей осторожно спросил:
— Обидел никак кто?
— Пустяки. Это так...
Так, да что-то не так. Но Тимофей смолчал, не стал навязываться с настойчивыми расспросами. Она заговорила сама:
— Помните, в день первого нашего знакомства на станции вы говорили мне, что теперь свобода, что теперь все равны будут?
— Помню... Говорил...
— А где же оно, это равенство?.. — из глаз девушки покатились слезы.
— Да что случилось, Любушка?..
— Я так понимаю, Тимофей Егорович, — вытерла слезы и, несколько успокоившись, снова заговорила она. — Ну, богатство, оно и есть богатство. Тут кому как богом дано. А на что же топтать человека, если он бедный?..
— Да што случилось, ради бога?
— Проспала я немного сегодня и не успела к заутрене прибрать спальню Елизара Лукьяновича и Марфы Иннокентьевны. Так Елизар Лукьянович раскричался, разругался разными словами... А я что? Не человек, что ли? Зачем на меня разными словами?.. А Елизар Лукьянович еще и издевается: козявка ты, а не человек. Тебе, кричит, на роду написано быть в работницах, в прислуге. Да я, кричит, если захочу, что угодно с тобою сделаю — захочу растопчу, захочу помилую...
— Ах он гад... — задохнулся от гнева Тимофей. — А таким душевным казал себя... Сволочь буржуйская... Вот я покажу ему, как измываться...
Любушка не успела и глазом моргнуть, как Тулагин махнул на верхи. Но не застал Шукшеева — он с утра уехал по делам в Читу...
Говорят, гора с горою не сходится. А тут сошлись.
Надо же было такому случиться, что сразу по приезде Тимофея в Читу его вместе с Софроном Субботовым послали разгонять демонстрацию в железнодорожных мастерских. По дороге Тимофей спросил Софрона:
— О чем у них демонстрация, как думаешь?
— Супротив новой власти бастуют.
— А почему супротив?
— Большевики мутят.
— Может, правильно мутят, а? Большевики, говорят, — за простой народ. А что Ленин и его партия немцам продались и казачество хотят уничтожить, брехня все это.
— Кто его знает. Может, и брехня.
Тулагин и Субботов прибыли в железнодорожные мастерские, когда демонстрацию уже разогнали. Но без дела они не остались. Им поручили конвоировать одного из бунтовщиков.
Тимофей и Софрон вели в тюрьму пожилого железнодорожника по малолюдной улице города.
— Слышь, папаша, что митинговали-то? — не удержался Тимофей.
— Чтобы таким, как ты, глаза открыть! — больше с горечью, чем со злостью отозвался железнодорожник. — Кого плетями стегаете, шашками рубите, под ружейными дулами водите? Своего же брата бедняка: крестьянина, рабочего... Эх вы, топите в крови революцию на свою же голову.
«Верно ведь режет», — мысленно согласился с ним Тимофей. Вспомнились слова Шукшеева: «Нечего с народом разговаривать... Нагайками...»
— Слышь, Софрон, — поближе привернул Тулагин свою лошадь к Софроновой. — Может, отпустим, а?
— Ты что, Тимоха? — испуганно блеснули глаза Субботова. — Под военно-полевой суд захотел?..
Из проулка на улицу выкатили расписные пароконные сани. В них, за спиной конюха Максима, в роскошной колонковой шубе Шукшеев. Максим придержал лошадей, пропуская конвой. Шукшеев повернул на казаков голову, узнал Тулагина, шумно закричал:
— Георгиевский кавалер! Егорыч!.. Заловили бунтаря? Так его... В тюрьму ведете? Хоть взбодрите раз-другой нагайкой. Мороз-то нынче какой... Заколеть может большевичок-то... Любушка низко кланялась тебе, Его...
Шукшеев не досказал. Тимофей яростно хлестнул лошадь, налетел на сани и со всего плеча стебанул Елизара Лукьяновича нагайкой.
— Это — для твоего взбадривания, — приговорил он, горяча Каурого. — А это, чтоб не заколел. — И снова опустил на шукшеевскую голову нагайку. — А это за Любушку... — обрушил новые удары. — За «растопчу и помилую»...
Максим гикнул на лошадей, сани понеслись.
— А ты чего, папаша, рот раззявил? — закричал, выходя из себя, Тимофей железнодорожнику. — Катись на все четыре стороны! Кому говорят, катись...
Софрон кинулся на Тулагина:
— Опомнись. Что творишь?!
— Не мешайся, Софрон! — отмахнулся Тимофей от Субботова. — Знаю, что творю.
— Под суд же пойдем...
— Беги, папаша, пока не поздно. Бог даст, в лучшее время свидимся...
На шомпола Тимофея препровождало двенадцать казаков. Среди них был и Субботов.