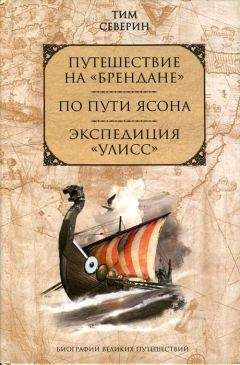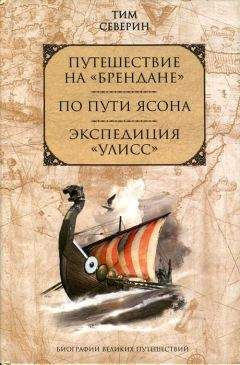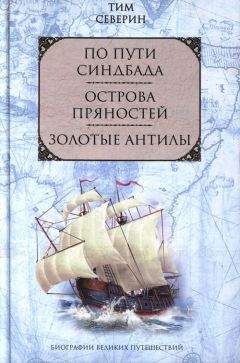Николай Северин - Сын Олонга
— Айда, айда, пошел!..
Гнедко Устин голос знал, прыжком махнул и головой поравнялся с чубарой.
Свистнул пронзительно по-птичьи Итко, махнул камчой, рванулась чубарая и вылетела вперед за флажок. За ним с развевающимися по ветру волосами Устя. Взмыленные, одна за другой, вскакивали лошади на пригорок, останавливаясь у флажка. Они тяжело хрипели, вздрагивая всеми ребрами. Наездники, молча отдуваясь, вытирали рукавами разведенную в поту грязь, летевшую во время бега из-под копыт в лицо. Обратно поехали шагом, но с половины, не выдержав, обгоняя друг друга, с таким же азартом бросились вскачь.
Лошади с дымящимися боками перед трибуной хрипели, роняя с губ белую, похожую на сметану, слюну. Человек с флажком, отмечавший скакавших лошадей, заявил:
— Первым приехал этот алтаец. — Он указал на Итко.
Зашумели в толпе, а зычнее всех, прячась в толпе, выкрикивал Парфен:
— Не давай ему, он с половины дорога из-за кустов, вынырнул, — а сам думает: «На обоих ездил, не обогнать Гнедку чубарой!..»
На трибуне поговорили, поспорили и потом заявили:
— Приз — плуг Сакка—полагается Парфену Корыбаеву.
Выдача приза происходила у школы; там же выставка по сельскому хозяйству. Старуха-алтайка, привязав к изгороди пугливо озирающуюся лошадь, заглядывала со всех сторон в гудевший трактор и всех спрашивала:
— Покажи, где огонь горит.
Тракторист отрицательно качал головой, она сердито повторяла:
— Дым есть, огонь тоже есть.
Итко тоже пошел в школу. Ему больше всего нравились яркие краски красно-зеленых кружков, квадратиков, столбиков в диаграммах.
За школой, на опушке соснового бора — толпа. Там песни и пляски. Итко привязал чубарую к сосне, закурил трубку. Весело смотреть, как пляшут: много бы трубок выкурил, да закричали что-то на сосне. Оборвалась песня, рассыпалась пляска. Чубарая на задних ногах взвилась у сосны, аркан оборвала. Поймал Итко кобылицу, снова подъехал. Все сидят, слушают и смотрят на сосну в черную с красным нутром воронку.
Спросил Итко:
— Кто говорит?
— Сам Калинин с Москвы крестьянам бает.
— Якши, Калинин мой хорошо знает, — ответил Итко, — Кызыл Ойрот писал: якши Москва…
Кончилось радио. Разошелся народ, подъехал Итко к сосне, где черная воронка прицеплена, встал на седло и по сучкам белкой залез. Приставил ухо к воронке, — не слышно ничего, только ветер в вершинах шелестит. Отколупнул от воронки красно-черной коры, к огниву в сумочку положил. Спускаться начал, сучок сломил, загудела на разные голоса натянутая проволока. Понравилось. Долго сидел, подергивая за проволоку. Гудела проволока, пел Итко свои песни лесные. В воронку заглядывал, ждал, когда оттуда запоет, а воронка молчала.
— Зачем, Калинин, не говоришь? Мой слушать хочет.
Вместо ответа крикнула подъехавшая верхом Устя:
— И-и-тко-о-о!..
Испугался Итко, подстреленной белкой, цепляясь за ветви, прыгнул в седло. Летит по лугу, а Устя за ним. Проскакали километры, отстал от чубарой Гнедко. У речки осадил Итко кобылицу.
Устя кричит:
— Зачем на коне от меня шибко бежал?
— Твой конь плуг взял, пусть мою чубарую догонит.
Скалит Итко зубы. Смеялись вместе. Повернули круто лошадь. Устя дернула поводья, крикнула:
— Айда!
В бешеной скачке по лугу, через деревню к школе, опять обогнала чубарая Гнедко. Устя, подъезжая вплотную к Итко, потрепала чубарую по шее:
— Твоя, Итко, лошадь лучше!.. Привязывай коней, пойдем кино смотреть!..
Не понял Итко, чего смотреть, но послушно привязал рядом с гнедой чубарую.
Отворила Устя дверь, шагнул Итко через порог и прижался к косяку. Весь вечер он испуганно смотрел на белую стену, где в полосах синего света рождались, бегающие люди, высились, похожие на скалы, многоэтажные дома города. Итко исподлобья, сурком из норы, тянулся вперед, оборачивался на полосы света, наваливался грудью на стоящих впереди, а когда показался на экране верховой, Итко, расталкивая, бросился вперед и на весь зал закричал:
— Человек конем едет!
В заме раскатисто захохотали. После сеанса Устя с Флегонтом выкатили с выставки плуг. Итко подъехал к крыльцу на чубарой. Плуг ему взвалили на седло. Держит поперек седла плуг Итко. Устю спрашивает:
— Куда вести надо?..
— Домой к себе в урочище вези!
— Зачем домой?!
— Вези, хлеб сей, мы тебе дарим…
Пока Устя говорила с Итко, Флегонт привязал за седло два мешочка с семенами, в одном пшеница «Ноя», в другом овес «Золотой дождь».
По обычаю нельзя отказаться от подарка, и Итко, нагруженный, повернул от школьного крыльца. Из Гардайской долины через лесные перевалы вьется тропинка в долину Чулышмана.
Цепляются в черни ветви кедрача, царапает плуг сошником о скалы; болят ссадины на коленках; запеклась кровь на шее у чубарой, — а Итко поет новую песню про железную машину:
Мать моя — чернь густолиственная,
чубарую в машину запрягу,
травы зелено-росистые землей завалю,
зерна желтые там накидаю.
В месяце красной рябины,
гоняясь за голубой белкой,
буду есть белые лепешки!
ГЛАВА XIV
ДВОРЕЦ
Испокон веков варится «травянушка» — пиво медовое: с трех стаканов шатается человек, а от пяти — на карачках ползет. Накануне медового праздника собирается молодежь в культпоход: по деревням и урочищам Чуйского аймака седлали лучших скакунов, взнуздывали уздечками с серебряными накладками; на спину пляшущих коней забрасывали яркокрашеные потники; затягивали волосяные подпруги резных, с медными бляхами седел; вплетали в гривы ленточки, лоскутки ярких материй и свежекарминовые цвета маральника. Алтайские ребята больше украшали коней, русские заботились о цветных новых рубахах, а девчата надевали платья поцветистее и понаряднее. С гиком, обгоняя друг друга, в долине гуськом вытягивалась по горной тропе молодежь.
— Стой, тише езжай, Усти нет, — кричал сзади долговязый Флегонт, застрельщик похода, а Устя в это время точно бешеная носилась по двору, отыскивая седло.
Вечером, когда отец узнал, что дочь едет с ребятами к алтайцам делать «культу», ночью тайком угнал с улицы Гнедка, Устиного любимца. Но, проснувшись до зари, Устя увидела на крыльце возвращавшегося отца, поняла, в чем дело, и, схватив первую попавшуюся узду, кровеня ноги в щебнях и шиповнике, нашла лошадь. Но не было седел.
Кинулась к матери; мать, возясь у печки с шаньгами, покосившись на мужа, сказала:
— Не знаю, Устя, куда седла запропастились…
А Парфен, густо в черную бороду пряча смех: