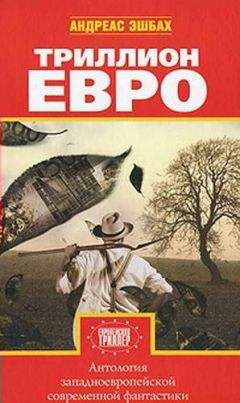Александр Адабашьян - Транссибирский экспресс
— Вот-вот! Именно! — с жаром воскликнул Фан. — Я как раз хотел сказать — это и есть моя борьба с политикой вообще, понимаете? Я...
— Вот видите, — перебил его улыбаясь Тагава. — Когда вам пытаются внушить что-то с помощью газеты, вы ее сжигаете, а когда — с помощью трубы, приходите к нам, а ведь мы из тех, кто читает газеты.
— Все понятно, — тяжело вздохнул Фан и встал. — Прошу извинить. — И, прихрамывая, направился к двери.
— Ничего, — улыбнулся ему вслед Тагава. — Идите, господин Фан. Идите и подумайте. Вы коммерсант и должны знать, что за все полагается платить.
— Но вы говорите не о деньгах, а это уже не коммерция, — ответил Фан в дверях, поклонился и вышел.
Некоторое время Тагава задумчиво смотрел на закрывшуюся за Фаном дверь. Потом негромко проговорил:
— Идеальная кандидатура... Синьцзян, Красная Армия, Казахстан...
И тут дверь, на которую Тагава продолжал смотреть, медленно открылась. В щель просунулась голова Фана.
— Я подумал, — грустно улыбнулся он. — Поэтому и пришел...
Весь следующий день Чадьяров провел дома. Он ни с кем не встречался, на телефонные звонки не отвечал.
Для принятия каких-либо дальнейших решений ему необходимо было встретиться с человеком из Центра.
Вчера, после четырехчасовой беседы в «Фудзи-банке», веселый Фан был завербован японской разведкой. Он согласился на это, страдая и препираясь. Ничего конкретного ему пока не сказали, но расстались с ним чрезвычайно учтиво, обещали помочь восстановить кабаре, разобраться с Разумовским, с которым Тагава оказался «немного знаком». Часа через два, после того как Фан вернулся домой, из «Фудзи-банка» посыльный принес конверт с чеком на довольно крупную сумму...
В семь часов вечера Чадьяров поужинал у себя в кабинете, потом лег на диван и уснул. Проснулся он в половине девятого, встал, прошел в ванную, осмотрел начавшие заживать ссадины, потом сел за свой письменный стол и стал ждать. Когда в девять глухо ударили стоявшие в углу кабинета большие часы, Чадьяров поднял трубку.
— Отель «Насиональ»... Тридцать седьмой... Могу ли я поговорить с господином Эрихом фон Риттенбергом? — спросил он, когда в тридцать седьмом номере сняли трубку. — Я по поводу мебели... — Секунду он слушал кого-то на том конце провода, потом сказал: — Хорошо. — И повесил трубку.
Было уже темно, когда Чадьяров оказался перед зданием отеля. Он прошел через вестибюль, поднялся на второй этаж. Тридцать седьмой номер находился в самом конце коридора. Коридор был пуст. Чадьяров постучал. Из-за двери ответил по-немецки мужской голос.
— Относительно мебели... — сообщил Чадьяров, и ему разрешили войти.
Чадьяров переступил порог, и остановился — в комнате было совершенно темно.
— Закройте дверь, проходите. Прямо у окна кресло, — сказал из темноты тот же голос.
Чадьяров закрыл дверь.
Если не считать слабого света уличных фонарей, падавшего на потолок и часть стены, в комнате была полная темнота. Чадьяров сделал несколько шагов, но споткнулся обо что-то и тихо рассмеялся:
— Послушайте, я вас три года ждал, а вы меня так встречаете!
Мужчина не ответил.
Чадьяров дошел до окна, сел в кресло.
— Так и будем в темноте сидеть? — поинтересовался он.
— Да, так и будем, — сухо ответил хозяин номера и спросил: — Что у вас? Как дела?
— Если не смотреться в зеркало, хорошо. Разумовский разгромил мое заведение, я пожаловался «Фудзи-банку», завербован. Конкретного пока ничего. Правда, деньги на ремонт дали. И на новую мебель тоже. Деньги взял...
Дальше Чадьяров рассказал все, что думал о «Фудзи-банке», о приезде Хаяси и Сугимори, об убийстве Куроды.
Хозяин номера слушал внимательно. Помолчав немного, заговорил сухо, без интонаций:
— Москва не хотела вас трогать. Однако вы к цели ближе всех, потому и получили приказ действовать. Положение тяжелое. Японцы смотрят на материк. Готовят что-то серьезное. А воевать мы сейчас не можем. Сил на войну нет. В Италии фашисты. В Германии тоже начинают... — Хозяин номера встал, повернулся спиной, прикурил. Спичка на мгновение осветила его силуэт, белую рубашку, коротко стриженные волосы. Он затянулся, сел на место, продолжил: — В Японии, сами знаете, народ трудолюбивый, хочет мира. Но это — народ... Более того, в правительстве тоже сильны антивоенные настроения, но существует правое крыло — военные. Эти готовы на все, и в их руках сила — армия. Помните: возможна любая провокация, самая дерзкая. Задача: работа с японцами, глубокий, четкий анализ их действий. Связь, инструкции у вас будут. Как всегда — внимание, осторожность. Запасных вариантов у Москвы нет. Пока нет. Это все.
Он замолчал.
Чадьяров видел, как в темноте бледным пятном расплывалась рубашка связного, как розовый глазок сигареты плавно летал по воздуху.
— Вы готовы?
— Готов? — горько усмехнулся Чадьяров. — Я уже полтора года готов. Как мне вас называть?
— Никак. Через два часа я уезжаю.
— Что?! — У Чадьярова напряженно заходило сердце. — Уезжаете?! Да вы что, с ума сошли?
От одной мысли, что ему опять предстоит остаться одному, без связи, стало жутко. Как он ждал этого человека! Как был счастлив, когда услышал пароль. И когда его били во время погрома, он не так ощущал эти удары, потому что знал — одиночество кончилось, он нужен, о нем помнят... Есть связь, а что теперь? Все сначала?
— Кому я нужен один? — с яростью шептал Чадьяров. — Три года просидел здесь без связи, без людей, без задания!.. Забыли, что ли, там про меня? Вы... ты сам-то представляешь себе хоть немного, что это такое, когда поговорить три года не с кем?! Когда унижение кругом, мерзость! Не приходилось тебе перед начальником китайской полиции плясать вечерком этак часика полтора? У меня почти два года все подготовлено — только работай! Но что я без связи? Нуль! В общем, так. — Голос Чадьярова стал твердым: — Передай в Москве: или у меня будет связь, люди и так далее — все, что нужно, или я...
— Хорошо, — сухо перебил его хозяин номера, — я передам! Вернусь и передам.
— Это когда же, интересно? — резко спросил Чадьяров.
— Когда вернусь... — повторил связной. — Если вернусь. Я ведь еще туда еду, а не обратно... — Он загасил окурок в пепельнице. — У меня все.
Наступила тишина. Тикал стоявший на тумбочке маленький будильник. По улице прогрохотала тележка.
У Чадьярова лопнула ссадина на губе, и теперь он сидел, слизывая, как в детстве, выступившую кровь. Ныл затылок, и, вообще, все тело отяжелело, захотелось скорее оказаться в своем кабинете, лечь на диван, накрыться одеялом, заснуть и долго не просыпаться.
Шумно вздохнув, Чадьяров провел рукой по волосам и глухо сказал: