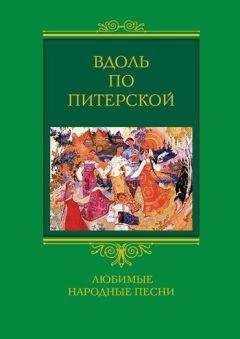Владимир Набоков - Университетская поэма

Обзор книги Владимир Набоков - Университетская поэма
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПОЭМА[1]
1
“Итак, вы русский? Я впервые
встречаю русского...” Живые,
слегка навыкате глаза
меня разглядывают: “К чаю
лимон вы любите, я знаю;
у вас бывают образа
и самовары, знаю тоже!”
Она мила: по нежной коже
румянец Англии разлит.
Смеется, быстро говорит:
“Наш город скучен, между нами, —
но речка — прелесть!.. Вы гребец?”
Крупна, с покатыми плечами,
большие руки без колец.
2
Так у викария за чаем
мы, познакомившись, болтаем,
и я старательно острю,
и не без сладостной тревоги
на эти скрещенные ноги
и губы яркие смотрю,
и снова отвожу поспешно
нескромный взгляд. Она, конечно,
явилась с теткою, но та
социализмом занята, —
и, возражая ей, викарий, —
мужчина кроткий, с кадыком, —
скосил по-песьи глаз свой карий
и нервным давится смешком.
3
Чай крепче мюнхенского пива.
Туманно в комнате. Лениво
в камине слабый огонек
блестит, как бабочка на камне.
Но засиделся я, — пора мне...
Встаю, кивок, еще кивок,
прощаюсь я, руки не тыча, —
так здешний требует обычай, —
сбегаю вниз через ступень
и выхожу. Февральский день,
и с неба вот уж две недели
непрекращающийся ток.
Неужто скучен в самом деле
студентов древний городок?
4
Дома, — один другого краше, —
чью старость розовую наши
велосипеды веселят;
ворота колледжей, где в нише
епископ каменный, а выше —
как солнце, черный циферблат;
фонтаны, гулкие прохлады,
и переулки, и ограды
в чугунных розах и шипах,
через которые впотьмах
перелезать совсем не просто;
кабак — и тут же антиквар,
и рядом с плитами погоста
живой на площади базар.
5
Там мяса розовые глыбы,
сырая вонь блестящей рыбы,
ножи, кастрюли, пиджаки
из гардеробов безымянных;
отдельно, в положеньях странных
кривые книжные лотки
застыли, ждут, как будто спрятав
тьму алхимических трактатов;
однажды эту дребедень
перебирая, — в зимний день,
когда, изгнанника печаля,
шел снег, как в русском городке, —
нашел я Пушкина и Даля
на заколдованном лотке.
6
За этой площадью щербатой
кинематограф, и туда-то
по вечерам мы в глубину
туманной дали заходили, —
где мчались кони в клубах пыли
по световому полотну,
волшебно зрителя волнуя;
где силуэтом поцелуя
все завершалось в должный срок;
где добродетельный урок
всегда в трагедию был вкраплен;
где семенил, носками врозь,
смешной и трогательный Чаплин;
где и зевать нам довелось.
7
И снова — улочки кривые,
ворот громады вековые, —
а в самом сердце городка
цирюльня есть, где брился Ньютон,
и древней тайною окутан
трактирчик “Синего Быка”.
А там, за речкой, за домами,
дерн, утрамбованный веками,
темно-зеленые ковры
для человеческой игры,
и звук удара деревянный
в холодном воздухе. Таков
был мир, в который я нежданно
упал из русских облаков.
8
Я по утрам, вскочив с постели,
летел на лекцию; свистели
концы плаща, — и наконец
стихало все в холодноватом
амфитеатре, и анатом
всходил на кафедру, — мудрец
с пустыми детскими глазами;
и разноцветными мелками
узор японский он чертил
переплетающихся жил
или коробку черепную;
чертил, — и шуточку нет-нет
да и отпустит озорную, —
и все мы топали в ответ.
9
Обедать. В царственной столовой
портрет был Генриха Восьмого —
тугие икры, борода —
работы пышного Гольбайна;
в столовой той, необычайно
высокой, с хорами, всегда
бывало темновато, даром
что фиолетовым пожаром
от окон веяло цветных.
Нагие скамьи вдоль нагих
столов тянулись. Там сидели
мы в черных конусах плащей
и переперченные ели
супы из вялых овощей.
10
А жил я в комнате старинной,
но в тишине ее пустынной
тенями мало дорожил.
Держа московского медведя,
боксеров жалуя и бредя
красой Италии, тут жил
студентом Байрон хромоногий.
Я вспоминал его тревоги, —
как Геллеспонт он переплыл,
чтоб похудеть… Но я остыл
к его твореньям... Да простится
неромантичности моей, —
мне розы мраморные Китса
всех бутафорских бурь милей.
11
Но о стихах мне было вредно
в те годы думать. Винтик медный
вращать, чтоб в капельках воды,
сияя, мир явился малый, —
вот это день мой занимало.
Люблю я мирные ряды
лабораторных ламп зеленых,
и пестроту таблиц мудреных,
и блеск приборов колдовской.
И углубляться день-деньской
в колодец светлый микроскопа
ты не мешала мне совсем,
тоскующая Каллиопа[2],
тоска неконченых поэм.
12
Зато другое отвлекало:
вдруг что-то в памяти мелькало,
как бы не в фокусе, — потом
ясней, и снова пропадало.
Тогда мне вдруг надоедало
иглой работать и винтом,
мерцанье наблюдать в узоре
однообразных инфузорий,
кишки разматывать в уже;
лаборатория уже
мне больше не казалась раем;
я начинал воображать,
как у викария за чаем
мы с нею встретимся опять.
13
Так! Фокус найден. Вижу ясно.
Вот он, каштаново-атласный
переливающийся лоск
прически, и немного грубый
рисунок губ, и эти губы,
как будто ярко-красный воск
в мельчайших трещинках. Прикрыла
глаза от дыма, докурила
и, жмурясь, тычет золотым
окурком в пепельницу... Дым
сейчас рассеется, и станут
мигать ресницы, и в упор
глаза играющие глянут
и, первый, опущу я взор.
14
Не шло ей имя Виолета,
(вернее: Вийолет, но это
едва ли мы произнесем).
С фиалкой не было в ней сходства[3], —
напротив: ярко, до уродства,
глаза блестели, и на всем
подолгу, радостно и важно
взор останавливался влажный,
и странно ширились зрачки...
Но речи, быстры и легки,
не соответствовали взору, —
и доверять не знал я сам
чему — пустому разговору
или значительным глазам...
15
Но знал: предельного расцвета
в тот год достигла Виолета, —
а что могла ей принести
британской барышни свобода?
Осталось ей всего три года
до тридцати, до тридцати...
А сколько тщетных увлечений, —
и все они прошли, как тени, —
и Джим, футбольный чемпион,
и Джо мечтательный, и Джон,
герой угрюмый интеграла...
Она лукавила, влекла,
в любовь воздушную играла,
а сердцем большего ждала.
16
Но день приходит неминучий,
он уезжает, друг летучий:
оплачен счет, экзамен сдан,
ракета теннисная в раме, —
и вот блестящими замками,
набитый, щелкнул чемодан.
Он уезжает. Из передней
выносят вещи. Стук последний, —
и тронулся автомобиль.
Она вослед глядит на пыль:
ну что ж — опять фаты венчальной
напрасно призрак снился ей...
Пустая улочка, и дальний
звук перебора скоростей...
17
От инфлуэнции презренной
ее отец, судья почтенный,
знаток портвейна, балагур,
недавно умер. Виолета
жила у тетки. Дама эта
одна из тех ученых дур,
какими Англия богата, —
была, в отличие от брата
высокомерна и худа,
ходила с тросточкой всегда,
читала лекции рабочим,
культуры чтила идеал
и полагала, между прочим,
что Харьков — русский генерал.
18