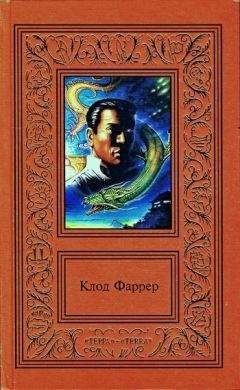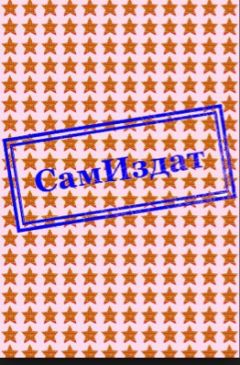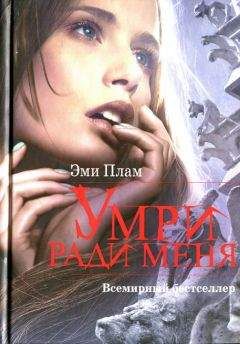Клод Фаррер - СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ. ТОМ 2
— Прекрати огонь! Башня направо!
Русские броненосцы поравнялись с арьергардом. Приходилось вести бой справа. Все условия стрельбы изменились, и приходилось заново создавать все вычисления.
— Хэй!
Два канонира, оставив свои места, бросились вперед, к сиденью командира. И Ферган инстинктивно бросился с ними…
Маркиз Иорисака соскользнул на землю — без крика, без стона. Из плеча его, ужасно разодранного, струился такой поток крови, что его желтое лицо сразу позеленело.
Очевидно, осколок снаряда ударил его через одно из отверстий каски, хотя в башне ничего не было слышно из-за царящего снаружи шума…
Люди с помощью Фергана положили начальника между орудий. Он еще не был мертв. Он сделал знак и сказал — неслышно, но понятно всем:
— По местам!
Люди повиновались. Один Ферган остался, склонившись над лицом умирающего.
Тогда произошло странное событие…
Унтер-офицер башни подбежал: ему принадлежала честь заместить начальника.
Он перескочил через распростертое тело, поднял телеметр, выскользнувший из окровавленной руки и, готовый подняться на командное сиденье, стал поворачивать в руках инструмент с нерешительным видом человека, сознающегося в своем неумении… И Ферган, несмотря на свою искреннюю печаль, улыбнулся:
«Бог знает, как он будет им пользоваться!..»
Тогда маркиз Иорисака с напряжением поднял правую руку и прикоснулся к унтер-офицеру. Тот обернулся.
Голова умирающего сделала для него движение справа налево… Мол: «Нет! Не вы!»
И мутнеющим взором японский офицер уставился на английского офицера:
— Вы!
Герберт, удивленный, откинулся.
— Я?..
Он опустился на колени около Иорисака Садао и заговорил тихо, как говорят с больным, который бредит:
— Кими, я англичанин, нейтральный…
Он повторил дважды, выговаривая очень ясно:
— Нейтральный… нейтральный…
Но вдруг он смолк, потому что побледневшие губы шевелились, и хриплое бормотанье выходило из них, сперва смутное, но затем все более ясное и твердое, отдельные слоги… слова-песня:
…Время цветущих сакур
Еще не прошло.
Но цветы опадут и развеются
В то время, как любовь тех,
Кто глядит на них,
Достигнет расцвета страсти…
Герберт Ферган слушал — и вдруг внезапный холод сковал его жилы…
Почти мертвые глаза не отрывали от него своего взора, неподвижного и мрачного, в котором, казалось, светился отблеск какого-то былого видения. Голос, усиленный чудом энергии, продолжал петь:
— …Он сказал мне:
«Мне снилось сегодня,
Будто косы твои опутали мою шею,
Как черное ожерелье обнимали они мою шею
И спускались на грудь мне…»
Бледнее, чем сам Иорисака, Герберт Ферган отступил на один шаг; он отворачивал голову, чтобы уклониться от ужасного взгляда. Но он не мог уклониться от голоса, более ужасного, чем взгляд.
Голос звучал, как хрусталь, готовый разбиться. Кровь прилила к щекам Фергана и залила все лицо стыдом унижения, клеймом полученной пощечины.
Голос закончил торопливо, как неумолимый заимодавец, который властно требует возврата долга:
…Я ласкал их, и они нас соединили.
И, прильнув устами к устам,
Мы были как два лавровых дерева,
Растущих из одного корня…
Голос угас. И только взгляд упорствовал, бросая в последней вспышке приказ — ясный, непреложный, неотразимый.
Тогда Герберт Ферган, опустив глаза в землю, уступил и повиновался.
Из рук унтер-офицера он взял телеметр. И он взобрался по трем ступенькам лесенки и сел на место командира…
Справа, один за другим, появились русские броненосцы. Они удалялись поспешно…
— Джентльмен должен расплачиваться!.. — пробормотал Ферган.
Он откашлялся. Его голос раздался хрипло, но отчетливо, уверенно:
— Шесть тысяч двести метров! Восемь делений налево… Огонь!..
В мгновенном молчании, предшествовавшем грохоту выстрела, под лесенкой послышался едва уловимый звук. Маркиз Иорисака завершил свою жизнь без стона, без содроганий, сдержанно и пристойно. Но перед тем, как закрыться навсегда, его уста прошептали два японских слога, два первых слога имени, которого он не закончил:
— Митсу…
XXX
…С кучи обломков, которая осталась на месте мостика и рубки, снесенной одним снарядом, виконт Хирата Такамори в последний раз наклонился над отверстием рупора и кинул последнее приказание, завершавшее день и окончательно превращавшее бой в победу.
— Прекратить огонь!
На грот-мачте «Миказы» развевался и сверкал сигнал Того, подобный радуге после грозы. В зените, посреди мрачных туч, голубой прорыв в облаках принимал форму крылатой Победы.
Крики неслись с одного судна на другое быстрее, чем несется северо-западный ветер, когда бушует осенний муссон: торжествующий крик Японии-победительницы, крик торжества древней Азии, навсегда освободившейся от европейского ига:
— Тейкоку банзай!
— Да живет вечно империя!
Хирата Такамори трижды повторил этот возглас. Потом, развернув сухим движением веер, не покидавший его рукав, он обвел весь горизонт с юга на север и с востока на запад взглядом невыразимой гордости. Прекрасен был этот час и опьянял сильнее, чем тысяча чаш сакэ. Тридцать три года со дня появления на свете бессознательно ждал Хирата Такамори этого часа. Но для высокого опьянения, которое охватило его теперь и как бы погрузило в море чистого алкоголя, тридцать три года не были слишком долгим ожиданием:
— Тейкоку банзай!
Крик этот смолкал, возобновлялся опять, удваивался, рос. Вдоль линии броненосцев пробегала миноноска «Татсута». На ее мостике офицер повторял приказ:
«Славные добродетели императора и незримое покровительство его предков дали нам полную и окончательную победу. Всем, совершившим свой долг, поздравление!»
В это мгновение солнце, пробившись наконец сквозь облака и дым, показалось, касаясь горизонта на западе.
Оно показалось совершенно красное, похожее на чудовищный шар, цвета огня и крови, который катит сквозь лазурь Небесный Дракон… Похожее на диск, царящий на знамени империи… И оно окунулось в море.
Хирата Такамори глядел на него. Оно было, как символ родной Японии. Оно ласкало последней сверкающей лаской поле битвы, где было пролито столько крови ради славы империи Восходящего Солнца.