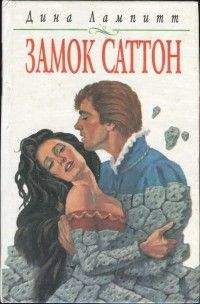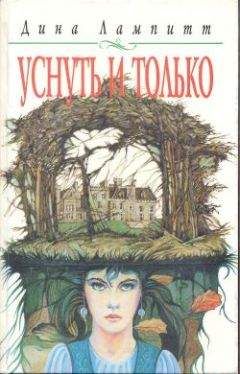Дина Лампитт - Солдат удачи
Джекдо понял, что с него хватит. Отвесив короткий поклон и извинившись, он протолкался между танцующими гостями (они дергались из стороны в сторону, как марионетки, в такт ужасной музыке) и поспешил в боковой зал. Потом он свернул в короткий коридор, которого прежде здесь не было, и подошел к двери, ведущей в закрытую темную комнату. Из комнаты доносился чей-то голос. Джекдо открыл дверь и в изумлении обнаружил, что голос раздается из ящика в углу, на котором сменялись движущиеся цветные картинки.
В другой ситуации Джекдо, без сомнения, задержался бы и рассмотрел ящик получше, но на сей раз не осмелился. Издали он услышал голос Пенни: «Я в это не верю! Это невероятно! На фотографии только я и мистер Джетти! Что, черт побери, происходит? Я боюсь. Как вы думаете…»
Джекдо поднес к глазам зеленый шарик и изо всех сил сосредоточился на дне рождения Иды Энн. Он снова очутился в мире зеленых переплетений, изумрудно-ледяных сталактитов и сталагмитов. Потом — пустота…
Вдруг у него над ухом кто-то произнес:
— А, вы здесь! С вашей стороны нехорошо играть в такие игры! Я хотела танцевать этот танец с вами.
Он открыл глаза и понял, что сделал это напрасно. Он сидел на стульчике в буфетной, а прямо над ним склонилось лицо миссис Клайд.
— Что я здесь делаю? — пробормотал он, понимая, что это звучит очень глупо.
— Только что вы прошли через боковой зал и, должно быть, спрятались здесь.
— Только что? Вы видели, как я это проделал?
— О да… мы все видели.
Джекдо уставился на миссис Клайд, а она продолжала:
— Вы оставались в часовне целую вечность. А потом вы спустились и прошли через Большой Зал, где мы все танцевали. После чего вы оказались здесь, — она пристально взглянула ему в лицо. — Вы очень бледны. С вами ничего не случилось?
— Нет, ничего, — тихо ответил Джекдо. — Просто мне приснился сон длиной в целую жизнь.
Полночь! Но перезвон колоколов в церкви, бросающей свою тень на казино Доммайера, не был похож на обычный. Ведь сегодня — последний день 1847 года; и это последний мирный и спокойный год Европы. Повсюду назревали перемены. Новый, богатый класс заводовладельцев, сложившийся после индустриальной революции, хотел встать вровень с аристократией. Кроме того, повсюду на устах угнетенных было новое слово — национализм. Это смертоносное сочетание представляло собой бомбу с часовым механизмом, которой суждено было взорваться в наступающем году.
Но Джон Джозеф и Горация, кружившиеся в вальсе под музыку Иоганна Штрауса II (в семье Штрауса тоже произошла революция: сын превзошел в своей славе знаменитого отца), не позволяли себе задуматься об этом. Джон Джозеф прижимал к себе красавицу жену, не в силах оторвать глаз от ее лица, и думал о том, что наслаждается ее обществом по-настоящему и очень привык к ней. Он думал, что в браке всегда бывает так… но разговоры с товарищами-офицерами заставили его понять, что ему повезло.
Этот несчастный глупец, всегда считавший себя неотразимым в глазах женщин, так и не понял, что безумно влюблен в собственную жену. Что наслаждение, которое он получает от ее смеха, улыбки, походки, — это частица самого могущественного в мире чувства. Он и не подозревал о том, что любовь Горации приносит ему больше удовольствия, чем любовь всех тех женщин, чьими ласками он пользовался до брака, именно потому, что он обожает свою жену. Женщина, на которой он женился только ради того, чтобы жениться, которой он сделал предложение в минуту полного разочарования в жизни, сумела покорить его сердце полностью, да так, что он и не заметил.
И в тот момент, когда перезвон церковных колоколов возвестил наступление 1848-го года (который позднее войдет в историю как Год Революций), Джон Джозеф испытывал огромное счастье от сознания того, что на следующий день, когда они со всем полком отправятся в Венгрию, жена будет сопровождать его. Лайон Кошут, который начинал свою карьеру как блестящий венгерский адвокат, теперь стал публиковать свои статьи в подпольной националистической газете и требовать независимости для своей страны… а Вена отвечала войсками.
— Ты доволен, что я поеду с тобой? — спросила Горация, словно прочитав его мысли.
— Я просто счастлив. Большинство жен офицеров предпочли остаться в тылу, в Вене.
— Но я не «большинство жен».
— Да ты в миллион раз красивее, умнее и отважнее, чем самая лучшая из них.
Она засмеялась, теснее прижавшись к мужу.
— Мне кажется, ты несправедлив.
— Возможно. Я думаю, тебе не понравится в Пеште: это очаровательный старинный город, но сейчас он словно вымер.
— А тебе он нравится?
— И да, и нет. Я уже жил там в гарнизоне, и это было на редкость тоскливо. Но на сей раз, по крайней мере, мы будем в казарме для женатых.
— Думаю, что это — единственная причина, по которой ты женился на мне: ты хотел улучшить жилищные условия.
Джон Джозеф засмеялся, лукаво взглянув на Горацию:
— Как ты догадалась?
— Не надо меня так дразнить!
Внезапно она показалась Джону Джозефу совсем юной и очень ранимой, и у него безо всякой причины заныло сердце. Он серьезно спросил:
— Горри, ты не жалеешь, что вышла за меня замуж?
— Единственное, о чем я жалею, — что в свое время не оказалась умнее.
Не добавив ни единого слова, она присела в реверансе перед полковником, который поклонился ей, и закружилась с ним в танце, прежде чем ее муж успел придумать подходящий ответ.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Сон пришел как раз перед рассветом, такой же отчетливый и ясный, каким он был двадцать лет назад в замке Саттон. Джон Джозеф опять услышал стоны умирающих, свист и тяжелые удары мортир, пронзительное ржание лошадей; он снова увидел себя мертвым, и вновь рядом была Горация. Но на этот раз было и одно отличие: ему снилось, что он — маленький мальчик, спящий в своей старой детской комнате и видящий тот же самый сон. Он видел сон во сне.
Впечатление было настолько ярким и живым, что когда Джон Джозеф проснулся и увидел палатку, освещенную теплыми розовыми лучами поднимающегося солнца, то в испуге не мог сообразить, где находится. Потом он вспомнил. Они с Горацией отступали вместе со всем полком, размещавшимся до того в Пеште. Революция, которой так долго боялись, свершилась. В Австрийской империи шла гражданская война. Она началась в марте восстанием студентов Венского университета и закончилась свержением блистательного имперского правительства. Столица оказалась в руках мятежников. Это явилось сигналом, и революция вспыхнула повсеместно. 28 сентября (неделей раньше Джон Джозеф был отозван) Венгрия уже была готова объявить войну.