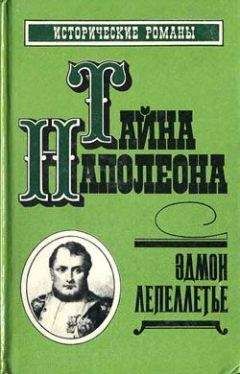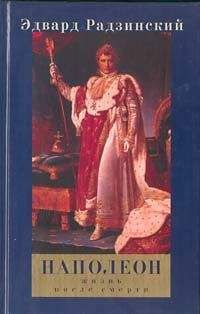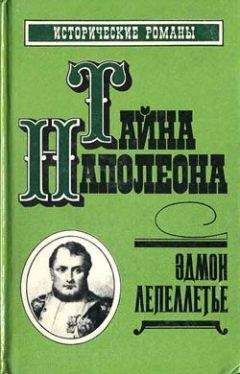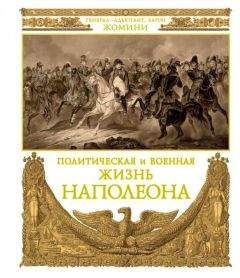Эдмундо Конде - Яд для Наполеона
Со рвотной массой из желудка удалялись остатки мышьяка, которые вполне могли быть обнаружены при посмертном вскрытии. А во-вторых, рвотный камень, воздействуя на ослабленный организм, приводит к притуплению, а затем и исчезновению нормального рвотного рефлекса, — естественной защитной функции желудка, лишившись которой организм становится как никогда уязвим.
Бонапарту прописали прием рвотного двумя дозами в день с промежутком в двенадцать часов, и результаты не заставили себя ждать. Все шло в точности, как рассчитывал Жиль. Император выказывал ему такое же доверие, как и прежде, и, видимо, был уже внутренне готов к тому, что заключительная часть его жизненного пути будет погружена во мрак. Но самое главное — он все чаще стал говорить о завещании. В этом Жиль усмотрел знак, что настало время ускорить процесс. Успех находился на расстоянии вытянутой руки, и теперь его беспокоило лишь одно, — опасение, что кто-то может ему помешать.
Кто из окружения императора мог о чем-нибудь догадаться, когда все столь тщательно продумано? Маршан? Бертран? Монтолон? Монтолона, который дольше других находился у ложа Наполеона следовало опасаться в первую очередь. У Жиля не выходил из головы случай, когда граф чуть было не увидел, как он подмешивал мышьяк в бочку с вином. Или все же увидел?..
Император, часто жаловавшийся на жгучую жажду, пристрастился к оршаду — напитку, который готовили из сладкого миндаля и флердоранжевой воды для придания апельсинового вкуса. Жиль вознамерился приготовить оршад по всем правилам, то есть с добавлением горького миндаля, но в пропорции, соответствовавшей скорее рецепту маркизы де Бринвилье. Однако на острове Святой Елены достать горький миндаль представлялось делом весьма сложным. Тогда Жиль вспомнил, что его можно заменить косточками персика. Их ядра в составе оршада производили эффект, подобный маслу горького миндаля.
В тот день, когда он отправился в сад за персиками, к нему неожиданно подошел граф де Монтолон.
— Вы так увлечены сбором фруктов, Жиль…
Жиль обернулся.
— Персики нужны для приготовления оршада, мсье. Вместо горького миндаля.
— Вместо горького миндаля? Любопытно.
— В Джеймстауне горького миндаля не купишь, а косточка персика вполне может его заменить.
— Понятно. Но отчего же вы ничего не сказали раньше? Я сегодня же обращусь к губернатору, чтобы нас обеспечили горьким миндалем.
— Благодарю вас, мсье.
— Не стоит благодарности. Хотя я нахожусь здесь с единственной целью — служить императору, но принимая во внимание вашу близость к нему, буду стараться по возможности удовлетворять и ваши просьбы, вы понимаете меня?
— Отлично, мсье.
— Да будет вам известно, ваша беззаветная преданность его величеству, ваше беспокойство о его здоровье очень трогают меня. Вы можете быть уверены, что никто, кроме меня, не способен в должной мере оценить ваши усилия.
— Вы делаете мне честь. Однако прошу простить, меня ожидает его величество.
— Полно, Жиль. В дальнейшем дела, подобные сбору урожая, поручайте попечению прислуги.
Жиль, коротко кивнул, повернулся и быстрым шагом направился к дому. Он был взволнован.
Оказывается, Монтолон не только осведомлен о делах Жиля, но и хочет, чтобы тот об этом знал. «По-видимому, в этом театре ужасов на краю света я невольно стал исполнителем роли, уготованной Монтолону», — мелькнуло в голове у Жиля.
С наступлением ночи к нему вернулось присутствие духа. Не позволяя страхам взять верх над разумом, он заново взвесил все обстоятельства. Если его не схватили за руку раньше, почему это должно случиться теперь, когда остается нанести лишь один — последний и решительный — удар? К тому же не следует сбрасывать со счетов то обстоятельство, что Бонапарт недавно составил завещание и граф, судя по некоторым признакам, включен в число облагодетельствованных. Окончательный ответ на этот вопрос содержался в трех объемистых пакетах, обвитых лентами и запечатанных сургучными печатями с оттиском герба императора. Жиль видел их собственными глазами, но вот теперь они исчезли из поля его зрения.
Спустя несколько дней губернатор прислал в Лонгвуд-хаус коробку горького миндаля.
А буквально на следующий день до ушей Жиля дошла тревожная информация из совершенно неожиданного источника — от генерала Бертрана, самого верного и самого несчастного из находившихся на острове соратников императора.
Анри Бертран был примерно одного возраста с Наполеоном и служил у него еще с Египетской кампании. В ранге гофмаршала двора он управлял делами во дворце Тюильри, затем разделил с императором изгнание на остров Эльба и вот теперь оказался на Святой Елене. Бертран прослыл человеком педантичным до мелочей, необщительным, скрытным и не особенно деликатным в суждениях о людях. Он каждый божий день непременно бывал у императора, хотя жил — с женой Фанни и четырьмя детьми — на некотором удалении от Лонгвуд-хауса. Это расстояние с течением времени стало непреодолимым препятствием — Бонапарт охладел к Бертрану в пользу Монтолона, который после отъезда семьи делил с императором кров и всегда был к его услугам. Бертран так и не смог примириться с тем, что почетное место приближенной особы перешло Монтолону — аристократу с сомнительным прошлым и с не менее сомнительным моральным обликом.
Итак, Бертран, переживавший момент слабости (ему уже не менее, чем его супруге, хотелось отсюда уехать), поведал Жилю, что император потерял рассудок и невозможно даже себе представить, чтобы он, с его помутившимся разумом, самолично составил завещание, так что, возможно, его последняя воля написана под диктовку де Монтолона. И это говорил один из трех душеприказчиков! Двумя другими были все тот же Монтолон и главный камердинер Луи Маршан.
Жиль серьезно обеспокоился судьбой своей доли в наследстве. Незадолго перед тем он уже испытал неприятные ощущения, когда Наполеон не назначил его душеприказчиком. Однако то, что сказал Маршан, породило в нем самые мрачные предчувствия.
Состояние здоровья императора продолжало неумолимо ухудшаться. Он все реже вставал, не ел почти ничего, кроме супа, иногда — яйца или кусочка печенья. Зато жадно пил вино с ложки, равно как и напиток из горького миндаля, которым Жиль обильно поил его для утоления жажды.
Те, кто знавал Наполеона в расцвете сил и могущества, содрогались от ужаса, видя слабость и немощность великого человека. В отдельные моменты, балансируя на грани помрачения рассудка, он мог долго выспрашивать об одном и том же, как обычный смертный, преследуемый навязчивой идеей или потерявший память.