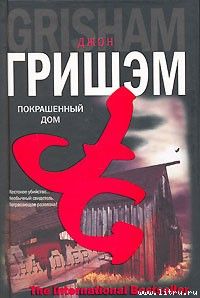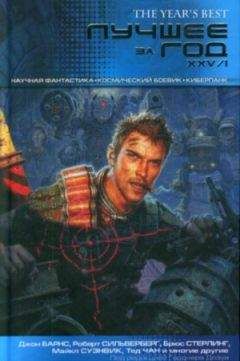Джон Бакен - Запретный лес
— Пошли! Жар спадает, — сказал солдат.
Дэвид плохо соображал, да и слова противоречили тому, что читалось на лице пришедшего. На какое-то мгновение он с удивлением почувствовал, что тревога исчезла.
— Она поправилась?
— Она умирает. — ответил Марк. — Сейчас полдень. Она отойдет с закатом.
Маленькие ромбовидные окна, хоть и было их два, почти не пропускали свет в этот хмурый день с грозящими дождем небесами. Вернулся мистер Фордайс и поначалу изливал душу в молитве у одра Катрин, но потом смолк, как и остальные в комнате. Стояла такая тишина, что даже слова молитвы могли показаться кощунством… Краски покинули лицо девушки, восковые щеки и побелевшие губы указывали на смертельную слабость. Ее недвижная рука бессильно лежала в ладони Дэвида, подобно увядающему цветку. Глаза были прикрыты, а чуть заметное дыхание едва колыхало грудь под одеялом.
В этот печальный час в душу Дэвида пришло успокоение. Наконец он по-настоящему смирился, в нем угасли все проблески и волнения человеческих желаний. Он ощутил радость, на которую не смел надеяться, его посетило чувство обладания неповторимым чудом. Теперь Катрин навеки принадлежала ему… В последнюю минуту глаза девушки открылись, и если на других она смотрела немного рассеянно, то на него — со всей страстью любви. На ее губах промелькнула тень улыбки. Но лишь только в комнату пробрались сумерки, ее душа покинула тело, как и предсказывал Марк.
Громкий плач двух женщин нарушил тишину, даже железная госпожа Гризельда потеряла привычное самообладание. Мистер Фордайс поднял руку, призывая к молчанию.
— Агнец отныне в объятиях Пастыря, — произнес он.
Госпожа Гризельда должна была, как и полагается хозяйке, заговорить:
— Была она доброю душою, и мысли ее были добрыми, но ежели не направили ее на путь истинный, то не ее вина… а уж с каким благоговением внимала она мистеру Джеймсу… — Она замолкла, увидев глаза Дэвида.
— Она теперь по правую руку у престола Господнего, — сказал он, — и я брошу это в лицо каждому священнику, исказившему Писание. Она создана по образу и подобию Божьему, и она ушла к Нему.
* * *Тем же вечером практичная госпожа Гризельда заговорила о скорбных приготовлениях к похоронам:
— Упокоим ее в Колдшо, на семейном гробовище Хокшоу. В древнем склепе еще имеется местечко, к тому ж Николас сложить свои кости дома не торопится.
— Ну нет, в Колдшо она лежать не станет. — Лицо Дэвида было необыкновенно спокойно, а голос ровен и бесцветен. — Она будет покоиться в чаще, которую считала своим владением, на поляне, что сама назвала Раем. Я знаю, чего она желала, даже если и не говорила мне. Я не допущу ее погребения в кладбищенском склепе… Она слишком юна… Она не умерла, просто уснула.
Госпожа Гризельда принялась возражать, но не очень упорно. Мистер Фордайс тоже почти не настаивал.
— Не в обычаях нашей Церкви, — сказал он, — считать освященными одни лишь погосты. Вся земля, принимающая в себя христианский прах, священна. Усопших собирают вместе под сенью кирки по одной причине, дабы могилы не были позабыты. Но все же тяжело помнить захоронение в дикой чаще, средь папоротников и камней.
— Я о нем не забуду.
— А когда сами оставите эту бренную землю?..
— Тогда какое это будет иметь значение? — Он мог бы посмеяться над бессмысленностью людских обыкновений. Он ощущал, что они с Катрин существовали в собственном мире, укрытом от чужаков, коего не коснутся время и расстояния, жизнь и смерть. Рай стал колыбелью их зарождающейся любви, для него это место превратилось в символ и тайну, так пусть телесная оболочка благословенного духа найдет последнее пристанище в Раю, ибо даже у блаженных имеются земные святыни.
И с наступлением ночи — госпожа Гризельда ни за что не дозволила бы столь неслыханной церемонии проходить днем — при свете факелов в руках Джока Доддса и сокольничего Эди, девушку похоронили у источника в Раю; Дэвид стоял в головах, а мистер Фордайс в ногах у могилы.
Дэвид будто грезил наяву. Земля словно не держала его; ход солнца, человеческая речь, дождь, ветер, каждодневная жизнь обратились в фантасмагорию: реальным стал лишь внутренний мир, где Катрин была по-прежнему жива. Он предпочел одинокую жизнь в пастырском доме, запретив Изобел возвращаться. Более того, он уговорил госпожу Сэйнтсёрф дать ей кров и работу и быть к ней добрее.
— Разумеется, буду ей токмо рада, ибо все у нее в руках горит, лучшей помоги по хозяйству и не сыщешь. Но, Дэвид, дружок, с тобой-то что станется? Желала б я сделать тебя своим крестником, Бог ведает, сколь горько Калидону надобен мужчина… Нынче нам за Николаса платить сорок тысяч мерков[132] штрафа…
Тут она заметила, что ее слова пролетают мимо его ушей. Глаза Дэвида слепо смотрели в бесконечную даль.
Глава 20. РАСПЛАТА
Когда Дэвид отправился в Аллерский приход, чтобы предстать перед Пресвитерским советом, неистовствовали апрельские дожди. Юго-западный ветер трепал голые ветви и ворошил гнилую листву, так и не обратившуюся в прах без морозов и снега. Покрасневшие воды Аллера вышли из берегов, затопленная речная пойма отливала свинцом. Птицы в пустошах, обычно встречающие весну веселым гомоном, молчали, да и было их гораздо меньше; не слышалось даже посвистов ржанки или кулика, лишь из Леса раздавались крики гнездящегося в корявых еловых лапах ворона. В такой день сердце человека каменеет, но Дэвиду было все равно. Он жил в своем мире, отгороженный от всего, кроме одного-единственного воспоминания. Он смутно представлял себе, что происходит с благословенной душой после смерти, но видевшиеся ему образы расходились с учением Церкви. Сейчас он размышлял о Катрин в духе идей Платона, представляя, что она живет во всем ясном и чистом, как о душе прекрасной, словно манящий закатный свет. Но чаще Катрин виделась ему святой, допущенной в объятия Христа, овеянной любовью, что неведома смертным, и протягивающей ему теплые руки, дабы не был он одинок. На ум пришли слова Пьера Абеляра:
О quanta qualia sunt ilia sabbata
Quse semper celebrat superna Curia[133].
Однако воскресение, о котором он думал, не имело ничего общего с воскресеньями церковными.
Мир, осязаемый мир, разбился для него на куски. Обитель Дэвида была не только закрыта от всех ветров, но, казалось, находилась в высокой башне, откуда все земное видится малым и далеким. Пресвитерий, Генеральный синод, Церковь казались мелкими и неважными, будто он смотрел на них в перевернутую подзорную трубу. Он был вооружен против их порицания, ибо нельзя осудить того, кто и так потрясен осознанием собственной никчемности, для кого власть людская всего только шелуха. В нем не было страха и ненависти: Бог сокрушил его, и, смиренный под ударами Его жезла, он с равнодушием взирал на бичи своих собратьев. Он не винил их — разве прах может винить прах?