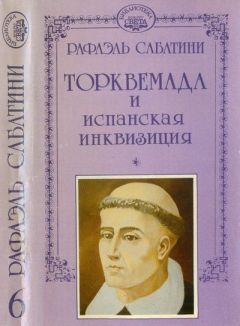Рафаэль Сабатини - Скарамуш
— Я вижу, ты явился сюда, чтобы побеседовать о политике.
— Нет, вовсе не за тем. Я пришёл, чтобы, по возможности, объясниться. Понять всегда значит простить. Это великое изречение Монтеня[122]. Если бы мне удалось сделать так, чтобы вы поняли…
— И не надейся. Я никогда не смогу понять, как тебе удалось приобрести такую дурную славу в Бретани.
— Ах нет, сударь, вовсе не дурную!
— А я повторяю — дурную среди людей достойных. Говорят даже, что ты — Omnes Omnibus, но я не могу, не хочу в это поверить.
— Однако это так.
Господин де Керкадью захлебнулся.
— И ты сознаёшься? Ты смеешь в этом сознаваться?
— Человек должен иметь мужество сознаваться в том, что осмелился сделать, — иначе он трус.
— А ты, конечно, храбрец — ты, каждый раз удирающий после того, как совершил зло. Ты стал комедиантом, чтобы укрыться, и натворил бед в обличье комедианта. Спровоцировав мятеж в Нанте, ты снова удрал и стал теперь Бог знает чем — судя по твоему процветающему виду, ты занимаешься чем-то бесчестным. Боже мой! Говорю тебе, что два года я надеялся, что тебя нет в живых, и теперь глубоко разочарован, что это не так. — Он хлопнул в ладоши и, повысив и без того резкий голос, позвал: — Бенуа! — Затем господин де Керкадью подошёл к камину и встал там, с багровым лицом, весь трясясь от волнения, до которого сам себя довёл. — Мёртвого я мог бы тебя простить, поскольку тогда ты заплатил бы за всё зло и безрассудство, но живого — никогда! Ты зашёл слишком далеко. Бог знает, чем это кончится. Бенуа, проводите господина Андре-Луи Моро до двери.
По тону было ясно, что решение это бесповоротно. Бледный и сдержанный, Андре-Луи выслушал приказ удалиться, испытывая странную боль в сердце, и увидел побелевшее, перепуганное лицо и трясущиеся руки Бенуа. И тут раздался звонкий мальчишеский голос:
— Дядя! — В голосе звучало безмерное негодование и удивление. — Андре! — Теперь в голосе слышались радость и радушие.
Оба обернулись и увидели Алину, входившую из сада, — Алину в чепце молочницы по последней моде, но без трёхцветной кокарды, которая обычно прикреплялась к таким чепцам.
Тонкие губы большого рта Андре сложились в странную улыбку. В памяти его мелькнула сцена их последней встречи. Он увидел себя, исполненного негодования, когда, стоя на тротуаре Нанта, провожал взглядом карету Алины, отъезжавшую по Авеню Жиган.
Сейчас она шла к нему, протянув руки, на щеках горел румянец, на губах была приветливая улыбка. Андре-Луи низко поклонился и молча поцеловал ей руку.
Затем она жестом приказала Бенуа удалиться и с присущей ей властностью встала на защиту Андре, которого выгоняли столь резким тоном.
— Дядя, — сказала она, оставив Андре и направляясь к господину де Керкадью, — мне стыдно за вас! Как, позволить, чтобы чувство раздражения заглушило вашу привязанность к Андре!
— У меня нет к нему привязанности. Была когда-то, но он пожелал убить её. Пусть он убирается ко всем чертям. И заметьте, пожалуйста, что я не позволял вам вмешиваться.
— А если он признает, что поступил дурно…
— Он не признает ничего подобного. Он явился сюда, чтобы спорить об этих проклятых правах человека. Он заявил, что и не думает раскаиваться. Он с гордостью объявил, что он, как говорит Бретань, — тот негодяй, который скрылся под прозвищем Omnes Omnibus. Должен ли я это простить?
Она повернулась, чтобы взглянуть на Андре через большое расстояние, разделявшее их.
— Это действительно так? Разве вы не раскаиваетесь, Андре, даже теперь, когда видите, какой вред причинён?
Она явно уговаривала его сказать, что он раскаивается, и помириться с крёстным. На какую-то минуту Андре-Луи почувствовал себя растроганным, но затем счёл такую увёртку недостойной себя и ответил правдиво, хотя в голосе его звучала боль.
— Раскаяться означает признаться в чудовищном преступлении, — медленно произнёс он. — Как вы этого не видите? О сударь, наберитесь терпения и позвольте мне объясниться. Вы говорите, что в какой-то мере я отвечаю за то, что произошло. Говорят, что мои призывы к народу в Рене и Нанте внесли свой вклад в нынешние события. Возможно, и так. Не в моей власти отрицать это с полной определённостью. Разразилась революция, пролилась кровь. Возможно, прольётся ещё. Раскаяться — значит признать, что я поступил дурно. Но как же я могу признать, что поступил дурно, и таким образом взять на себя долю ответственности за всё кровопролитие? Буду с вами до конца откровенен, чтобы показать, насколько далёк от раскаяния. То, что я совершил в то время, я фактически сделал вопреки всем своим убеждениям. Поскольку во Франции не было справедливости, чтобы наказать убийцу Филиппа де Вильморена, я действовал единственным способом, которым, как мне казалось, можно было обратить совершённое зло против виновного и против тех, у кого была власть, но не хватало духа его наказать. С тех пор я понял, что заблуждался, а прав был Филипп де Вильморен и его единомышленники. У освобождённого человека не может быть несправедливого правительства. Я воображал, что, какому бы классу ни дали власть, он будет ею злоупотреблять. Теперь я понял, что единственная гарантия против злоупотребления властью — определение срока пребывания у власти волей народа.
Поймите, сударь, что я совершенно искренне считаю, что не совершил ничего, в чём должен раскаиваться, — напротив, когда Франция получит это великое благо — конституцию, я смогу гордиться тем, что сыграл свою роль в создании условий, при которых это стало возможным.
Наступила пауза. Лицо господина де Керкадью побагровело.
— Ты кончил? — отрывисто спросил он.
— Если вы меня поняли, сударь.
— О, я тебя понял и… и прошу тебя уйти.
Андре-Луи пожал плечами и опустил голову. Как он стремился сюда, как радостно ехал — и только для того, чтобы получить окончательную отставку. Он взглянул на Алину. У неё было бледное и расстроенное лицо. Теперь она не представляла себе, как помочь Андре-Луи. Его чрезмерная честность сожгла все корабли.
— Хорошо, сударь. Но прошу вас помнить одно, когда меня здесь не будет: я не пришёл к вам, гонимый нуждой, просить о помощи, как блудный сын. Нет, я пришёл, ни о чём не прося, как хозяин своей судьбы, и меня привели сюда только привязанность, любовь и благодарность, которые я к вам питаю и всегда буду питать.
— Да-да! — воскликнула Алина, повернувшись к дяде. Вот, по крайней мере, довод в пользу Андре, подумала она. — Это так. Конечно…
Господин де Керкадью что-то невнятно прошипел в ответ, сильно раздражённый.
— Возможно, впоследствии это поможет вам вспоминать обо мне более доброжелательно, сударь.