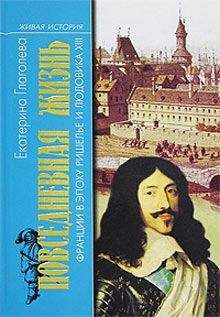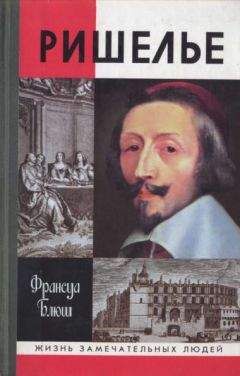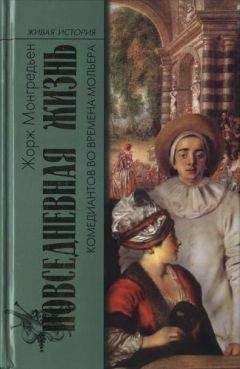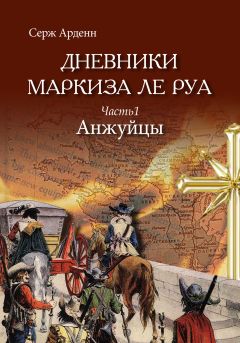Альфред де Виньи - Сен-Map, или Заговор во времена Людовика XIII
Впервые в жизни его обуял непреодолимый смертный ужас; он дрожал, его бросало то в жар, то в холод; он не решался поднять взора, боясь оказаться перед какимнибудь жутким видением; он не решался позвать на помощь, страшась звука собственного голоса; нестерпимая мысль о вечности, столь для него грозной, поглотила его; он стал шептать нечто похожее на молитву:
— Боже всемогущий, если меня слышишь,— суди меня, но не выделяй из прочих смертных. Взирай на меня в окружении современников, посмотри на огромный труд, предпринятый мной; чтобы сдвинуть с места эти глыбы, нужен был мощный рычаг, и так ли велика моя вина,.если рычаг, падая, раздавил несколько ничтожеств, не приносивших никакой пользы? Среди людей я буду слыть бессердечным, но ты, небесный судия, узришь во мне другое. Да, тебе ведомо, что только безграничная власть делает одно существо виновным перед другим; не Арман де Ришелье губит людей, а первый министр. И не за личные обиды, а потому, что того требует его замысел. А что такое замысел?… Дозволено ли так играть людьми и пользоваться ими для достижения определенной цели, да еще ошибочной, быть может? Я повергаю в прах всех придворных. А вдруг, сам того не ведая, я подрываю устои трона и готовлю его падение? Да, присвоенная мной власть совратила меня. О, безысходный тупик! О, ничтожество человеческой мысли!… Простодушная вера, зачем сошел я с указанной тобою стези?! Зачем не стал скромным пастырем? Если бы я решился порвать с людьми и посвятить себя богу, во сне ко мне, как к Иакову, спустилась бы с небес лестница.
В это время до слуха кардинала донесся сильный шум: солдатский хохот, грубые насмешки, ругань и одновременно слышался чей-то слабый, чистый голос; это походило на ангельское пение, прерываемое смехом адских сил. Кардинал встал и отворил своего рода окно, устроенное в его квадратной холщовой палатке. Взору его предстало странное зрелище; он некоторое время наблюдал его, внимательно прислушиваясь к тому, что говорили солдаты.
— Слушай, Лавалер, слушай,— говорил один из них, обращаясь к товарищу,— она опять заговорила и начинает петь; поставь ее в серединку, между нами и костром.
— Ты ничего не смыслишь; Гран-Фере говорит, что знает ее,— кипятился другой.
— Да, я сказал, что знаю ее, и готов поклясться святым Петром Луденским, что видел ее у себя на родине, когда приезжал на побывку, и было это в дни жаркого дела, о котором теперь лучше помалкивать, особенно когда говоришь с кардиналистом вроде тебя.
— А почему лучше помалкивать, дурень ты этакий? — возразил пожилой солдат, покручивая ус.
— Оттого, что язык можно обжечь, понял?
— Нет, не понял.
— Ну, и я не понимаю; а горожане говорят, что лучше помалкивать.
В ответ ему последовал взрыв хохота.
— Ну и простофиля же! Слушает, что говорят горожане!
— Видно ты слушаешь их болтовню, значит, тебе делать нечего,— подхватил другой.
— Видно, ты не знаешь, молокосос, что говаривала моя мать,— важно продолжал солдат постарше, многозначительно и сердито опустив взор, чтобы привлечь к себе внимание.
— Откуда же мне знать, Носогрейка? Твоя мать, вероятно, умерла от старости еще прежде, чем родился мой дед.
— Ну так слушай, молокосос, я тебе скажу. Во-первых, знай, что моя мать была почтенная цыганка и сопровождала полк карабинеров де Ларока, как сопровождает меня мой пес Пушка, которого ты тут видишь; она носила при себе водку в склянке, подвешенной на шее, и пила ее не хуже, чем любой из нас; у нее было четырнадцать мужей, все военные, и умерли они все до одного на поле сражения.
— Вот это женщина! — прервали его солдаты, преисполненные благоговения.
— И никогда в жизни она и словом не перекинулась со штатскими, разве что когда приказывала, сняв квартиру: «Зажги для меня свечку да разогрей похлебку».
— И что же она тебе говорила? — напомнил Гран-Фере.
— Не торопись, молокосос, а то и вовсе не узнаешь; она частенько повторяла: «Солдат лучше пса, но пес лучше штатского».
— Молодчина! Молодчина! Здорово сказано! — закричали солдаты в полном восторге от столь прекрасного изречения.
— И все же,— возразил Гран-Фере.— Штатские правы, говоря, что от таких разговоров язык жжет; вдобавок говорили это не совсем штатские, потому что они были при шпагах и возмущались, что сжигают священника, и я тоже был возмущен.
— А тебе-то что, простофиля, что сожгли священника? — сказал старый сержант, опершись на сошку своей пищали.— Он не первый; ты мог бы вместо него упомянуть кого-нибудь из наших командиров, которых теперь превратили в таких же мучеников; я роялист и высказываюсь смело.
— Тише! — воскликнул Носогрейка. — Послушаем, что скажет эта девка. Роялисты, сукины дети, никогда не дадут позабавиться.
— Что ты вздор мелешь-то,— возразил Гран-Фере,— ты, поди, даже не знаешь, за что стоят роялисты.
— Знаю, отлично знаю всех вас, не беспокойся,— вы стоите за старых, так называемых Князей мира, вы заодно с кроканами против кардинала и соляной пошлины. Вот тебе! Прав я или нет?
— Нет, не прав, старый красночулочник! Роялист — это тот, кто за короля; вот что такое роялист. Отец мой состоял при королевских соколах, и поэтому я за короля,— вот и все. А красночулочники мне не по душе, тут и понимать нечего.
— Ах, ты обозвал меня красночулочником? — возразил старый солдат.— Завтра ты мне за это ответишь. Если бы тебе довелось воевать в Вальтелине, ты так бы не говорил, а если бы видел, как его высокопреосвященство со стариком маркизом де Спинола прогуливались по молу Ларошели, в то время как в них палили из пушек, так ты бы помалкивал насчет красночулочников, понял?
— Бросьте вы перебранку, займемся чем-нибудь повеселее,— закричали им со всех сторон.
Солдаты, шумевшие возле палатки кардинала, стояли вокруг большого костра, который освещал их сильнее луны, хотя она и была очень яркой, а в этой толпе находилась и та, из-за которой они здесь собрались и кричали. Кардинал различил молодую женщину в черном, на голове у нее было белое покрывало; она была босая; ее изящный стан был обвязан грубой бечевкой, длинные четки ниспадали от шеи почти до ног; хрупкими, белыми, как слоновая кость, пальцами она перебирала зерна четок. Солдаты раскладывали по земле угольки, чтобы она обожглась, ступив на них босыми ногами. Эта дикая забава сопровождалась громким хохотом. Пожилой солдат подошел к несчастной с дымящимся фитилем пищали и, приблизив его к подолу ее юбки, хриплым голосом сказал:
— Ну, дурочка, расскажи-ка мне еще разок свою историю, а не то я начиню тебя порохом и ты взлетишь, как снаряд; берегись, я уже не раз это проделывал в прежних войнах с гугенотами. Давай пой!