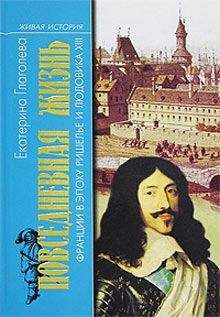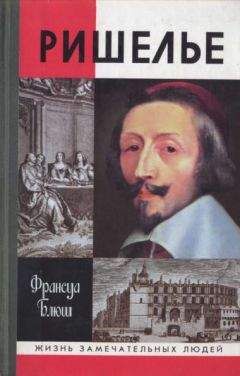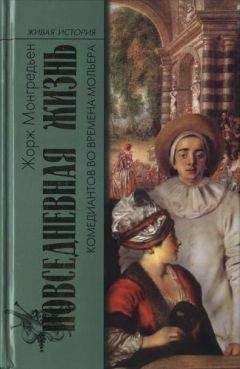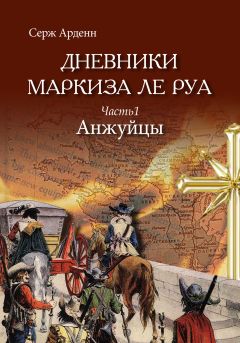Альфред де Виньи - Сен-Map, или Заговор во времена Людовика XIII
— Как вы огорчили меня, достопочтенный отец, тем, что обиделись на невинные шутки, которые я позволил себе только что.
— Что вы, любезный друг, я и не думал обижаться. Надо быть милосердными, милосердие прежде всего! Просто у меня в словах иной раз прорывается святое негодование, когда речь идет о благе государства и преуспевании его высокопреосвященства, которому я предан безгранично.
— Кому же лучше, чем мне, знать об этом, достопочтенный отец, да и вам отлично известно, сколь я предан высокопреосвященнейшему кардиналу-герцогу, которому я всем обязан. Увы, видно, я чересчур поусердствовал, чтобы угодить ему, раз он упрекает меня за это.
— Не тревожьтесь, он не гневается на вас,— сказал Жозеф,— я его хорошо знаю, он понимает, что всякому хочется кое-что сделать для семьи; ведь и сам он превосходно относится к своей родне.
— Вот именно,— подхватил Лобардемон,— и это как раз касается меня; если бы Урбен восторжествовал, моя племянница погибла бы вместе со всем монастырем; вы это сознаете не хуже меня; тем более что она нас не послушалась и, когда ей пришлось говорить, повела себя как девочка.
— Да что вы? При всех, в суде? Душевно сочувствую вам! Как это, вероятно, было вам тяжело!
— Тяжелее, чем думаете! Она позабыла все, что ей внушали во время беснования, допустила в латыни множество ошибок, которые мы по возможности тут же исправляли; а в день судебного разбирательства из-за нее произошла пренеприятнейшая сцена, пренеприятнейшая и для меня и для судей: она стала кричать и упала в обморок. Я ее изрядно проучил бы, будьте уверены, если бы не был вынужден внезапно выехать из города. Но все же, поймите, она мне дорога — ближе нее у меня родных нет, ибо сын мой сбился с пути, и вот уже четыре года, как о нем ни слуху ни духу. Бедняжка Жанна де Бельфиель! Я отдал ее в монастырь, а потом хлопотал, чтобы ее назначили настоятельницей только для того, чтобы все мое состояние досталось этому шалопаю. Если бы я предвидел, по какой дорожке он пойдет, я ни за что не отдал бы ее в монастырь.
— Говорят, она на редкость хороша собой,— продолжал Жозеф,— эта дар, неоценимый для всей семьи; ее можно было бы представить ко двору, и, может быть, король… гм, гм… мадемуазель де Лафайет… кхе, кхе… мадемуазель д'Отфор… сами понимаете… Да и сейчас не поздно об этом подумать.
— Как это похоже на вас, монсеньер… Я называю вас так, ибо знаю, что вы представлены как кандидат в кардиналы; сколь вы добры, что не забываете вашего преданнейшего друга!
Лобардемон продолжал говорить в этом духе, когда они оказались в том месте лагеря, откуда шла дорога к палаткам добровольцев.
— Да хранят вас в мое отсутствие господь и пресвятая дева,— сказал Жозеф, остановившись,— завтра я отправляюсь в Париж, а так как мне придется не раз иметь дело с юнцом Сен-Маром — сейчас наведаюсь к нему и спрошу, как его рана.
— Если бы вы меня послушались, то были бы избавлены от этой заботы,— сказал Лобардемон.
— Увы, спорить не приходится,— ответил Жозеф, глубоко вздохнув и подняв взор к небесам,— но кардинал уже не тот, что прежде; он не ценит благих идей и, если так будет продолжаться — погубит нас.
С этими словами капуцин низко поклонился судье и направился к биваку добровольцев.
Лобардемон некоторое время смотрел ему вслед, а когда убедился, что Жозеф идет именно туда,— пошел, или, вернее, побежал обратно, к палатке министра.
«Кардинал удаляет его,— соображал судья,— значит, он ему опротивел; а я знаю тайны, которые могут и вовсе погубить его. Скажу вдобавок, что он хочет подольститься к будущему фавориту; теперь уж не монах, а я стану любимцем министра. Время самое подходящее — сейчас полночь, и кардинал еще час-полтора пробудет один. Надо спешить!»
Он подошел к палатке стражей, расположенной возле кардинальского шатра.
— Его высокопреосвященство с кем-то беседуют,— нерешительно сказал начальник охраны,— к нему нельзя.
— Пустяки! Вы же видели — я только что вышел оттуда; я должен сообщить его высокопреосвященству важные известия.
— Входите, Лобардемон,— крикнул министр,— входите поскорее, и один!
Судья вошел. Кардинал по-прежнему сидел в кресле; одной рукой он держал руки монахини, а другой сделал судье знак, чтобы тот молчал. Ошеломленный приспешник, еще не разглядев женщину, замер на месте; она же говорила, торопясь высказаться, и смысл тех странных фраз, которые вырвались у нее, отнюдь не соответствовал ее нежному голосу. Ришелье был заметно взволнован.
— Да, я его поражу этим ножом; нож дал мне в харчевне бес Бегерит, но это кол, от которого погиб Сисара. Посмотрите, у ножа черенок из слоновой кости; я пролила над ним много слез. Чудно это, добрый генерал! Я воткну его в горло того, кто убил моего друга, как он сам мне наказывал, а потом сожгу тело. Око за око! Так наказывать сам бог разрешил Адаму… Вы, добрый генерал, кажется, удивляетесь… но вы еще больше удивитесь, если я спою вам его песенку… ту, что он пел мне еще вчера вечером… он явился в тот же самый час, когда запылал костер… вы знаете. В тот час, когда лил дождь, а руки у меня стали горячими, как сейчас, он мне сказал: «Как я провел этих судей в красном… у меня под началом одиннадцать бесов, и я пришел к тебе в самый перезвон колоколов… под алый бархатный балдахин, с факелами, со смоляными факелами, которые светят нам. Ах, что за великолепие!» Вот так он мне поет.
И она затянула на напев De profundis:[15]
Я буду князем адской бездны.
Мой скипетр — молоток железный,
Горящая сосна — мой трон,
Я в серный пламень облачен…
И в брак мы вступим невозбранно:
Приди и дай мне руку, Жанна.
Не чудно ли, добрый генерал? И я каждый вечер отвечаю ему. Вот послушайте, слушайте внимательно…
До ночи судьи говорили,
И вот меня везут к могиле.
Но все же я твоя жена.
Приди же… Ночь так холодна!
Но ты, ты будешь спать со мною,
Я саваном тебя укрою.
Потом он начинает говорить и говорит, как пророки и духи: «Горе, горе тому, кто пролил кровь! Разве земные судьи — боги? Нет, они люди, они стареют и страдают, а все-таки они решаются повелевать: «Казните этого человека!» Смертная казнь! Смертная казнь! Что дало человеку право казнить другого человека? То, что судей двое? А если б он был один,— значит, это было бы просто убийство? А ты считай хорошенько: раз, два, три… И вот трое превращаются в мудрецов и праведников! Напыщенные негодяи, наемники! Какое злодеяние! Небеса содрогаются! Если бы ты видела их, Жанна, как вижу я, сверху, ты бы еще не так побледнела! Плоть истребляет плоть! Она живет кровью и сама же проливает кровь! Равнодушно, без злобы! Так же, как ее создал бог!»