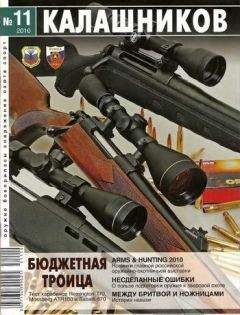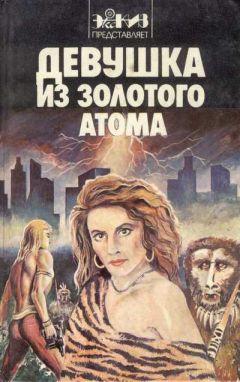Время умирать. Рязань, год 1237 - Баранов Николай Александрович
На следующий день добрались до засечной линии. Здесь уже вовсю распоряжался походный воевода боярин Матвей Терентьевич, посланный Юрием сразу за Ратиславом. Действовал он по издавна заведенному обычаю: разослал посланников по окрестным селениям и усадьбам, чтобы собирать ополчение для защиты засечной черты. Сюда же сгоняли боеспособных мужчин из семей беженцев со степной границы. Таких собралось изрядно, так как далеко от обжитых мест им уходить не хотелось, а оценить по-настоящему грозу, идущую из степи, они пока не могли.
Только чуть отойдя от скачки, Ратьша отправил гонца с грамотой к великому князю, в коей подробно описал все, что случилось за последнюю неделю. Только после того отправился в баню, а потом проспал почти что целые сутки. Отоспавшись, принялся за дела.
В лагерь, разбитый воеводой Матвеем у дороги, выходящей из Черного леса, каждодневно прибывали отряды ополчения. Вооружены были все, кто лучше, кто хуже: степь рядом, в редкой избе не имелось оружия. Бояре из окрестных усадеб приводили небольшие отряды всадников и пешцов. Эти были облачены в брони, с мечами, копьями и щитами. Ратьша мотался по засекам, расставляя людей в хитрых древесных лабиринтах.
На третий день прибыли татарские послы – шаманка с двумя богато одетыми монголами и два десятка воинов охраны. Имелся толмач из половцев. Странное посольство: шаманка, похоже, была у них главной. Маленького роста, сгорбленная, с лицом сморщенным, как печеное яблоко, одетая в вонючие звериные шкуры, все время что-то бормочущая про себя, дергающаяся и смеющаяся невпопад. Верхом, однако, она ездила получше иного мужчины.
Толмач сообщил Ратьше, что им нужно к главному князю. Воевода с сомнением посмотрел на странную старуху. Было чувство, что монголы решили поглумиться над русскими, отправляя на переговоры такого вот посла. Ну да это решать князю Юрию.
Что ж, раз прислали послов, воевать сразу не будут. Можно доехать до Рязани самому, послов проводить, рассказать, что в степи происходит, послушать, что собирается делать великий князь. Здесь, на засечной линии, управится и один Матвей. Делов-то: принимай отряды ополчения да расставляй их по засекам.
На следующее утро Ратьша с полусотней охраны и татарским посольством выехал в Рязань.
Глава 10
Въехали на взгорок, за которым открывался стольный град, когда покрасневшее солнце почти касалась темной полосы леса за Окой. Купола городских храмов блестели червонным золотом под лучами уходящего дневного светила. Дымы от очагов несчетными ровными столбами поднимались в небеса и на высоте, подхваченные верховым ветром, размазывались в белесое облако, сносимое вниз по Оке. Темные крепостные стены величаво высились по краю берегового откоса. Ратислав невольно залюбовался гордой красотой родного города.
За Черным оврагом, между его краем и опушкой Заовражного леса, на просторной луговине раскинулся воинский лагерь. Великий князь, похоже, времени не терял, исполчал княжьи и боярские дружины. Шатров стояло много. Так много, что столько Ратьша видел только в совместном походе с владимирцами на мордву пять лет тому назад. Здесь тоже поднимались дымы костров. У костров сидели воины, бродили по лагерю, в лагерь въезжали и выезжали из него всадники. У самой опушки гарцевали несколько сотен всадников в блестящем под закатным солнцем полном вооружении – упражнялись в атаке плотным строем.
Позади послышались гортанные возгласы и одобрительное цоканье. Видно, татары тоже оценили красоту русского города. А может, оценивали добычу, которую можно в нем взять. В душе Ратьши поднялась ярость. Казалось, степняки лапают своими грязными руками что-то чистое, родное, скрытое обычно от чужих жадных глаз. А он, рязанский боярин, который это родное должен беречь и защищать, сам привел сюда свирепых пришельцев, показывая им путь. Рука невольно легла на рукоять меча, пальцы судорожно сжались. Могута, остановившийся рядом стремя в стремя, внимательно посмотрел на исказившееся лицо Ратислава, положил руку ему на кисть, сжавшую рукоять, успокаивающе стиснул ее и качнул головой. Ратьша втянул воздух сквозь зубы, гася волну гнева в груди. Тряхнул головой. Оглянулся. Монголы сбились в кучу и лопотали что-то по-своему, размахивая руками и тыкая пальцами в сторону города. Ратислав выругался вполголоса и дал шпоры коню.
В город въехали, как обычно, через Полуденные ворота, мимо Черного оврага, по Приречной улице Южного Предградия. Проехали первую башню, захаб, вторую башню и въехали в город. Вездесущие мальчишки, увидев посольских, побежали следом с улюлюканьем и свистом. Взрослые, тоже побросав свои дела, высыпали на улицу и долго провожали встревоженными взглядами непривычного вида степняков.
Путь отряда лежал на посольский двор, находящийся неподалеку от Спасской площади, вблизи великокняжеского двора. Передав там с рук на руки монголов служкам, Ратислав и Могута с дружинниками поехали к княжьим хоромам. Разместив ближника с воинами в гриднице, Ратьша отправился к Юрию Ингоревичу доложить о прибытии посольства.
Князь пребывал в своей приемной палате. На улице почти стемнело, и опять в покоях горело множество свечей, распространяющих медово-восковой запах, от которого Ратьша привычно поморщился. С Юрием за его большим дубовым столом народу сидело много: сам великий князь, князь Федор, тысяцкий Будимир, тиун Корней, Коловрат, все четверо сыновцов от покойного брата Ингваря, брат Роман Ингоревич – князь коломенский с сыном Романом, Юрий Давидович – князь муромский с сыновцом Олегом и пронский князь Кир Михайлович с тремя племянниками. На столе стояли закуски и корчаги со ставленой медовухой. Похоже, серьезные разговоры уже закончились и собравшиеся ужинали.
Ратислав от двери отдал поясной поклон и подошел к столу. Юрий Ингоревич, увидев воеводу степной стражи, вышел ему навстречу, приобнял и, скрывая волнение, спросил:
– Привез послов татарских?
– Привез, княже, – кивнул Ратьша. – На посольском дворе разместил.
– Ин ладно, – вздохнул Юрий. – Пускай ждут до завтра. К обеду пригласим, послушаем. Тебе-то ничего в пути не сказывали?
– Нет, – покачал головой боярин. – Болтали между собой по-своему. Толмача половецкого от себя не отпускали. Видать, чтобы с нами разговоры не разговаривал.
– Понятно, понятно, – покивал князь. – Ну что ж, садись за стол. Выпей, закуси с дороги, а потом поведай нам, что с тобой за это время случилось. Что видел, что слышал, что сделал…
– Благодарствую, княже, – поклонился Ратьша и присел за стол на свободное место.
Теремная девка быстро поставила перед ним миску с овсяным киселем, положила серебряную ложку, поставила серебряный же кубок. Пододвинула поближе тарелку с крупно порезанными ломтями пшеничного хлеба, блюдо с ветчиной и сыром. Сноровисто налила в кубок меду.
Боярин не спеша, смакуя, выцедил прохладную терпкую влагу, зачерпнул ложкой киселя, хлебнул. Хорош кисель, с давленой брусникой и медом. Перестав чиниться, быстро опорожнил миску, подлил себе еще медовухи, выпил. Рука сама потянулась за хлебом, ветчиной и сыром. Опять наполнил кубок, сложил куски друг на друга, откусил, запил медовухой. Сжевал быстро.
Утолив первый голод, Ратьша оторвался от стола, огляделся. Все присутствующие терпеливо и молча, с должным вежеством ждали, когда он насытится. Томить князей дальше – показать неуважение. Боярин вздохнул и отодвинул от себя тарелку.
– Что слыхать об Онузле? – сразу спросил только этого и ждавший Юрий Ингоревич.
– Ничего не слышно, – мотнул головой Ратислав. – Бегунцов оттуда не было. Да и откуда взяться им? Такое войско обложило. Нет их даже с окрестностей: кто не ушел раньше, тот сбежал при появлении орды.
– Понятно… – протянул великий князь. – Ты отписывал в грамотах, что с самими мунгалами сшиблись в степи. Каковы они в битве?
– Они зовут себя монголами, так правильно.
– Не суть, – тряхнул головой Юрий. – Так как бьются?
– До прямого боя не дошло, только стрелы покидали друг в друга. По рассказам, рукопашной они вообще не любят. Изнуряют супротивников стрелами. Только потом, когда переранят коней и всадников, бьют плотным строем. Но те, что мы видели, не похожи на богатырей. Лошадки мелкие. Мой Буян такую стопчет – не заметит. Да и сами они не сажени в плечах, как кое-кто из половецких бегунцов говаривал. Но стрелы мечут знатно, и луки бьют вроде подальше наших. Спаслись тем, что мы в хорошем доспехе были, а у них защита слабовата. Потому, получается, по лучному бою так на так. Но неодоспешенных ратников-пешцов против них посылать нельзя: то верная гибель. И щиты не спасут. Да и конницу со слабым доспехом нельзя. Потери будут в их пользу. И, кстати, пешцы, пусть и в панцирях с шеломами, без конницы сгинут: засыплют стрелами, потом добьют.