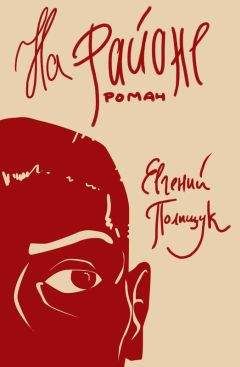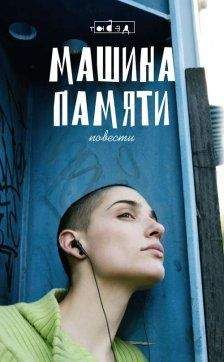Владислав Пасечник - Модэ
Вечером, на привале у пересохшей речки, он как будто почувствовал что-то, и впервые за время похода удалился от Лаошаня.
Он отъехал на невысокий утес, туда, где никто уже не мог его видеть. Вокруг звенели комары. Красное солнце спускалась к белым дюнам, потрескавшимся от засухи. Вокруг торчали голые прутья — все, что осталось от густой речной поросли. Чуть подальше от косогора еще рос высокий кустарник, земля там была сырая, илистая и лошадь могла отдохнуть в тени.
«Если хунну овладеют этим краем, река уйдет, Дану не потерпит такой гнусности» — вспомнилось вдруг Кермесу. Это место было ему знакомо. Когда-то здесь он ловил куропаток, и с ним был еще кто-то…
Дремота смежала Кермесу веки, он никак не мог вспомнить имя… имя…
Кермес прислонился к тонкой лошадиной шее, свесил грузные руки и прикрыл глаза. Он слышал, как кто-то поднялся на косогор и остановился. Близко было чужое лошадиное дыхание.
— Ты кто? — Кермес медленно поднял голову и разлепил уставшие, бессонные глаза.
Всадник стоял в полусотне шагов, неподвижный, похожий на тень от стрелы. Он стоял спиной к гаснущему солнцу и Кермес не видел его лица. Вдруг солнце осветило личину из желтого рога, две черных прорези на месте глаз и… зубастую ухмылку.
Кермес хрипло вскринул, тронул поводья и помчался прочь. Но с другой стороны косогора вышла уже другая фигура — чуть шире в плечах, в лисьей шапке, а вместо лица — маска из куска грубой кожи.
Кермес полетел на коне под гору, провалился в черное пустое русло, снова поднялся на плешивый пригорок — и увидел впереди еще две черные тени. Кермес затравленно огляделся — вот еще один всадник в берестяной личине, на коне паршивой масти — с белыми отметинами на копытах. А вот еще один — на белой тощей кобыле.
Он зарычал, ударил коня по тугим жилам, степь бросилась ему навстречу, спина выгнулась луком и земля перевернулось.
Кермес лежал на животе, а в горле клокотала кровь. Стрелы торчали из его спины красными иглами. Он не видел уже ничего, слезы и пот слепили ему веки… Вдруг вспомнилось ему что-то далекое и невозвратимое. Раскрасневшееся лицо, блеск мальчишеских глаз, восторг, оттого что бьется под заячьей шубкой первая пойманная куропатка, и живая улыбка, которую сменил теперь страшный оскал солнечной маски.
— Как чудно… — подумал Кермес и затих, оттого что не мог больше жить.
Тот, кто выстрелили первым, приблизился к телу, и навис над ним, неподвижный. Он всматривался зачем-то в лицо убитого батыра, словно пытался узнать, угадать…
Он вздрогнул, когда его, окрикнули:
— Ашпокай! Ашпокай! Это ты?
— Это я, — отозвался он, отнимая от лица маску.
Пятеро мальчишек, как один, последовали его примеру и побросали маски под копыта коней.
— Что вы здесь делаете? Нас могут увидеть! — на косогоре появился конник в остроконечном колпаке. — Мы не достали Лаошаня, хунны переполошились! Бежать нужно!
— Нет. Не бежать. Нужно уходить, — сказал Ашпокай. — Насовсем. Мы уйдем из этой степи, Атья. Здесь все кончено.
— Не понимаю, — сказал Атья, — что ты говоришь?
И тут он заметил лежащего на земле Кермеса.
— Это… это…
— Да, — ответил Ашпокай. — Это Михра. Мой брат.
И он швырнул маску на мертвое тело. Атья сорвал с головы колпак и закрыл им лицо свое.
Мальчишки неуверенно переглянулись, потом посмотрели на мертвого батыра. Никто из них не знал этого белобрысого хунну, — ни Атья, ни Ашпокай не рассказывали ничего о Михре.
— Все. Наигрался я в Михру, — сказал Ашпокай. — У нашего народа судьба есть, и здесь она не заканчивается. Чем раньше народ наш это поймет, тем лучше. Нужно всех собрать и двигаться.
— Куда? Куда?
— На запад, — Ашпокай посмотрел на перстень с вживленной в него капелькой коралла. — Мы проложим для нашего народа новый путь.
Ашпокай смял башлык, щека его дернулась от какого-то страшного напряжения:
— Все! Пошли! Уууу-хааааар-р-р!
— Уууу-хаааааар-р-р! — подхватили молодые волки.
Спустя мгновение они мчались вдоль пустого берега, на котором вечер уже протянул свои синие тени.
Конец.
20. 12. 2010.