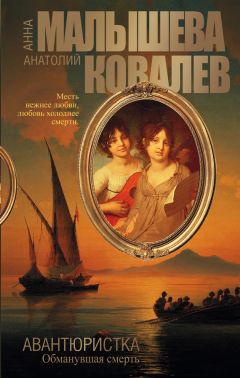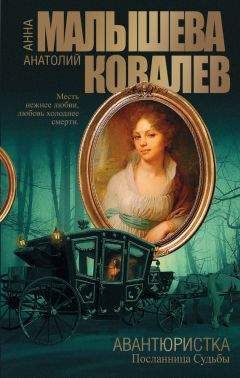Обманувшая смерть - Ковалев Анатолий Евгеньевич
– Кто, папенька?! – изумленно шепнул в ответ Борис. – На кого?!
– Да твоя невеста, черт возьми, мадемуазель Назэр! – задохнулся князь. – Она так уставилась на твоего брата, что вот-вот прожжет в его жалком мундирчике дыру!
– Я, папенька, попросил бы вас с уважением говорить об этой девушке! – вспыхнул Борис, оскорбленный грубым тоном отца. Тот, чуткий к опасности, как все природные игроки, моментально сменил издевательский тон на жалобный:
– Отцу ты мог бы и не читать мораль… Но что поделаешь, знать, я так и умру от горя, всеми порицаемый и проклинаемый… Одно тебе скажу, сынок: я пекусь о твоем счастье и благополучии, и даже если ты оттолкнешь меня и даже поднимешь на меня руку, я все равно буду о тебе заботиться… Не могу видеть, как у тебя уводят невесту! Ты посмотри на них, посмотри! Это же неприлично, в конце концов!
Борис, повинуясь его указаниям, смотрел и понимал то, что уже не составляло тайны ни для кого в гостиной. Несложная история любви (а сложные истории редко бывают счастливыми) была так ясно написана в сияющем, счастливом взгляде Майтрейи, что, встречая его, каждый невольно умолкал на миг. Глеб, единожды поймав на себе этот взгляд, тут же отвел глаза, не относя его на свой счет. Но не в силах противиться притяжению, которое властно влекло его, ни с чем и ни с кем не считаясь, молодой человек поднял глаза, остановил их на девушке… И больше они не видели никого в гостиной, хотя находились в разных ее концах. Елена, шокированная и возмущенная, сделала было движение, чтобы подойти к Майтрейи и образумить ее, но неожиданно вмешался Савельев, шепнувший виконтессе на ухо:
– Оставьте! Они так счастливы, разве не будет жестокостью им помешать? К тому же ваш кузен весьма споро поднимается по карьерной лестнице! Вчера он был лишь никому не известным «доктором Роше», а нынче вхож к губернатору, и в его молодые года занимает пост, который не снился иному заслуженному врачу! Быть может, молодой человек когда-нибудь станет и министром! Это вовсе недурная партия для вашей подруги и воспитанницы, могу вас уверить!
– О, вы умеете устраивать недурные партии, знаю! – отрезала Елена, смерив собеседника взглядом, в котором, кроме негодования, читалась растерянность. – Однажды я имела случай в этом удостовериться!
– Вы в трауре, Елена Денисовна? – Савельев пропустил колкость мимо ушей. – Позвольте узнать, по ком?
– По одной молодой девушке, которая когда-то тоже была влюблена, – ответила Елена, переводя взгляд с Майтрейи на Татьяну. – Признаться, с тех пор, когда я вижу влюбленную барышню, меня охватывает ужас.
Савельев и Евгений обменялись взглядами, значение которых было обоим понятно и без слов. Прасковья Игнатьевна, глядя на чиновника Третьего отделения, тревожно произнесла:
– Видите ли, сударь, мой сын попал в Москву в силу стечения обстоятельств… Он едва не угодил в карантин на Владимирской дороге, и… – Выдумать предлог, под которым ссыльный, живущий в деревне, мог оказаться на Владимирской дороге, бедная мать была уже не в состоянии и умолкла.
Савельев учтиво поклонился ей, щелкнув каблуками:
– Сударыня, не знаю, говорил ли вам граф обо мне и о той роли, которую я играл во время его возвращения из Петербурга… Со своей стороны, смею вас заверить, что я всегда буду считать за честь оказаться хоть немного полезным вашей семье!
– Я ничего не рассказывал матушке, чтобы не волновать ее! – поспешил пояснить Евгений. – Матушка, Дмитрий Антонович – мой друг, полюбите его, как люблю его я!
– Ты всегда был скрытным… – Прасковья Игнатьевна утирала выступившие на глазах слезы. – Поди сюда, Таня! – позвала она Татьяну, нерешительно приближавшуюся к ним. – Вот, сударь, невеста моего сына… Евгений, ты хотел просить Дмитрия Антоновича…
Дальнейший их разговор, без сомнения, был очень интересен, так как обсуждались подробности близкой свадьбы, но расслышать его не было никакой возможности – оглушительно захлопали пробки шампанского, открываемого Илларионом. Пена еще не осела в бокалах, когда князь, остановившись посреди гостиной, громогласно объявил:
– Господа! Предлагаю вам тост, поддержать который, конечно, никто не откажется! Быть может, грешно веселиться, когда вся Москва скорбит, но мое сердце, сердце отца, полно счастья… Прошу всех присутствующих выпить за чудесное спасение моего сына Бориса и нашей прелестной гостьи, мадемуазель Назэр!
Зазвенели бокалы. Все протягивали их в сторону Майтрейи и Бориса, прежде чем осушить. Создавалось полное впечатление импровизированной помолвки, которая подразумевалась, но не декларировалась открыто. Илья Романович, всю жизнь державшийся той идеи, что, если очень долго и настойчиво лгать, ложь станет правдой, улыбался с видом счастливого отца, благословляющего молодых. Он подошел к смущенной Майтрейи и жестом подозвал к себе Бориса:
– Поди сюда, разве учтиво заставлять нашу милую гостью скучать?
– Я вовсе не скучаю! – торопливо ответила Майтрейи и смутилась еще больше, осознав, что ответила не вполне вежливо.
Но молодой офицер как будто не обратил внимания на ее слова. После внушения, сделанного отцом, после того красноречивого обмена взглядами, который он приметил между братом и Майтрейи, Борис сделался очень серьезен и молчалив. Отец между тем бесцеремонно понукал его:
– Что же ты молчишь, мой мальчик? Ты читал, кажется, мадемуазель Назэр свои стихи? Сударыня, как вы их нашли?
– Они превосходны, – робко отвечала Майтрейи, ища ответного взгляда Глеба, который в этот миг повернулся к ней вполоборота, отвлеченный вопросом виконтессы.
– Борис, прочти еще! – приказал князь таким тоном, словно сыну все еще было десять лет и тот стыдился выступать перед гостями.
Борис внезапно очнулся и, сдвинув брови, взглянул на отца:
– Я не помню, чтобы у меня были стихи, подходящие к случаю, отец. Прошу вас, позвольте мне сказать несколько слов мадемуазель Назэр наедине.
Князь, удивленный его суровым видом и тоном, тем не менее поспешил ретироваться. Он распорядился вновь наполнить бокалы. Шампанское развязало языки, в гостиной становилось шумно. Не пил один Летуновский. Держа наполненный бокал в руке, накренив его так, что шампанское едва не выливалось на ковер, ростовщик сидел неподвижно, с безжизненно застывшим лицом, невольно играя роль черепа, украшавшего пиршества древних римлян. Борис склонился к Майтрейи:
– Я хотел сказать это с того самого момента, как встретил вас на балу в Царском Селе… Я люблю вас!
Девушка вздрогнула.
– Я знаю, что так не делается, не принято, не полагается! – шептал Борис, устремив на нее взгляд, до странности неподвижный. – Но я хочу, чтобы вы знали о моей любви. Скажите, вы ведь о ней знали?
Майтрейи опустила глаза, терзая бахрому кашемировой шали.
– Вы не умеете притворяться, – с отчаянием в голосе продолжал офицер. – Это так прекрасно в вас, это едва ли не прекраснее вашей небесной красоты… Но это мучает, убивает меня, когда я вижу, как вы смотрите на другого… На моего брата.
Девушка бросила терзать шаль и устремила на Бориса глубокий, выжидательный взгляд.
– Вы любите его? – чуть слышно спросил офицер.
– Да, – немедленно ответила Майтрейи.
Борис покачнулся, словно ему в грудь попала пуля. Он вцепился в спинку кресла:
– И у меня нет никакой надежды?
– Никакой, – так же безжалостно ответила Майтрейи.
Выпрямившись, Борис молча отошел от кресла, в котором, словно натянутая струна, дрожала Майтрейи. Он пересек гостиную (это короткое путешествие показалось ему бесконечным) и остановился рядом с Глебом:
– Братец, это, в конце концов, невежливо! – шутливо произнес он, между тем как его сердце терзали когти гарпий. – Твоя очаровательная пациентка нуждается во внимании ничуть не менее, чем остальные дамы! Я берусь развлечь их, а ты немедленно ступай к мадемуазель Назэр!
Глеб, удивленный его искусственно игривым тоном, взглянул в лицо брату, перевел взгляд на Майтрейи, которая, судя по ее виду, готова была лишиться чувств… И, ни слова не ответив, устремился к девушке. О чем говорили эти двое, осталось неизвестным, но взгляды их сделались так красноречивы, что на них старались не смотреть, – это было все равно что подслушать нежную беседу влюбленных. Лишь Илья Романович не сводил с этой пары страшных глаз. В иные моменты фигуры молодой девушки в белом платье и склонившегося над ней юноши в вицмундире исчезали, и князь видел вместо них два черных силуэта ростовщиков. Его сильно знобило, на висках проступала испарина, которую он промокал скомканной салфеткой. «Если это холера, – огненной стрелой пронеслось у него в мыслях, – не имеет значения, за кого выйдет мадемуазель Назэр. У смерти не выиграешь, у нее все карты крапленые!» Сердце князя стискивал ужас, словно на стене гостиной, как в царственном чертоге царя Валтасара, вдруг явилась роковая огненная надпись: «Мене, текел, фарес», предрекавшая гибель и раздел его царства.