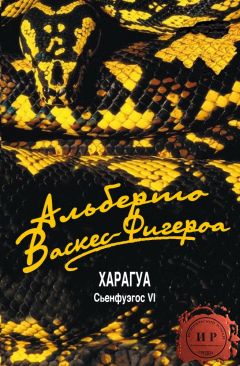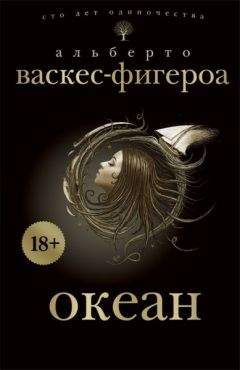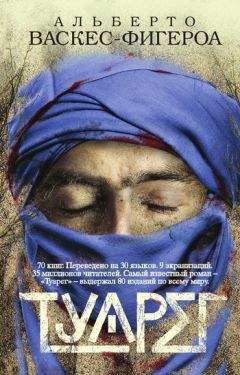Альберто Васкес-Фигероа - Силач
«Мне не на кого рассчитывать, кроме как на себя, -решил он. — Да еще, быть может, на это ходячее недоразумение — то есть на хромого, или на подобного мечтателя».
Он вновь сел рядом с измученной жертвой собственных козней, с тревогой следящей за каждым его движением.
— Мне жаль, что я вынужден покинуть вас в столь тяжкую минуту, — заговорил он самым печальным тоном. — Но это слишком трудное дело, и я сам рискую оказаться в большой опасности, — после этих слов он глубоко вздохнул. — Боюсь, что если вы не найдете способа освободить эту бедную женщину, то навсегда погубите свою душу, и я даже не знаю, чем смогу помочь, не подвергая опасности собственную голову.
— Так вы меня покидаете? — воскликнул Турок со слезами на глазах. — Вы ввергаете меня в пучину ада, когда я уже поверил, что выбрался из нее?
— А что еще мне остается? — посетовал канарец. — Я охранял вас все эти дни и был рад, что сумел избавить вас от столь ужасной судьбы, но при этом понимаю, что попытка освободить из темницы донью Мариану сопряжена с таким риском, что даже я, который никогда и ничего не боялся, трепещу от ужаса.
Во все времена не было заявления более фальшивого и одновременно с этим убедительного, не существовало актера более пылкого, чем канарец в этом споре, и даже менее напуганный и менее рациональный собеседник, нежели Бальтасар Гарроте в эти тревожные дни своей жизни, не стал бы подозревать дьявольский обман.
— А что будет со мной?
Наемник не получил ответа, поскольку Сьенфуэгос, опустив голову и играя с песком, словно пытаясь избежать горького признания, долго молчал, предпочитая, чтобы Турок сам выдумал ответ на собственный вопрос.
— Что будет со мной? — настаивал тот, готовый вот-вот заплакать и совершенно этого не стыдясь. — Если вы меня покинете, дьявол навеки завладеет моей душой. И тогда даже в смерти я не обрету освобождения!
— Вы меня растрогали.
— Только каменное сердце не растрогали бы мои несчастья, человек истинно верующий никогда не решился бы броситьу ближнего на милость сил зла. Как вы думаете, если я удалюсь в монастырь, Господь и Пресвятая Дева надо мной сжалятся?
— Не уверен, — ответил встревоженный Сьенфуэгос, поняв, что и впрямь зашел слишком далеко в описаниях мрачного будущего наемника. — Даже самые неприступные монастырские стены не смогут сдержать слуг Князя Тьмы, и сомневаюсь, что у вас останется время доказать свое раскаяние, — он красноречиво цокнул языком и развел руками, давая понять, что это не выход. — Думаю, единственный способ — попытаться освободить донью Мариану.
— И как я смогу ее освободить?
— Мы найдем способ.
— Так вы мне поможете? — с ликованием воскликнул Турок.
— Боюсь, что придется, — ответил Сьенфуэгос, изо всех сил стараясь казаться равнодушным. — А что мне еще остается? Скажите, вы знакомы с лейтенантом Педрасой?
— Немного.
— Насколько я знаю, это один из часовых в крепости.
— Все они упрямы и подозрительны.
— Я знаю, но этот человек должен мне денег.
— После того пресловутого пари с мулом?
— Совершенно верно. Быть может, мне удастся его убедить, чтобы он устроил вам встречу с доньей Марианой, и вы могли бы попросить у нее прощения.
— Вы же сами сказали, что этого недостаточно, — заметил наемник.
— Да, пожалуй, — согласился канарец. — Но вы хотя бы сделаете первый шаг: попросите у нее прощения, а заодно и выясните, в какой камере ее держат и как она себя чувствует: это для нас очень важно.
— Разумеется.
— Так вы готовы попытаться?
— Ну конечно!
Именно этого Сьенфуэгос и добивался — вместо того, чтобы вызвать подозрения лейтенанта Педрасы, он сделает это в качестве одолжения другу, столкнувшемуся со сложной ситуацией, в которой сам канарец вроде бы не имел никакого отношения.
— Вы хоть представляете, о чем меня просите? — испугался стражник, когда на следующий день Сьенфуэгос начал подбивать к нему клинья. — Заключенного Святой Инквизиции надлежит охранять даже неусыпнее, чем губернатора или даже самого короля Фердинанда. Если я пойду вам навстречу, то рискую потерять не только место, а саму жизнь.
— Понимаю, — ответил Сьенфуэгос. — Для себя я бы даже не заикнулся об этом. Но это нужно самому Бальтасару Гарроте, который на нее донес. Он хочет попросить у нее прощения: для него это вопрос совести.
— Надо было раньше об этом думать, — заявил Педраса.
— Вот и я ему это сказал, — вздохнул канарец. — Только упрекать несчастного человека, охваченного раскаянием — пустая трата времени. Если бы вы его видели! На нем просто лица нет; будто на краю могилы...
— Мы все окажемся на краю могилы, если пойдем у вас на поводу.
— Как жаль! — вздохнул Сьенфуэгос, делая вид, будто смирился с отказом. — Мне так хотелось помочь этому несчастному, что я готов был принять любые ваши условия.
— Какие такие условия? — заинтересовался лейтенант Педраса, хватая его за плечо. — Что, например, вы готовы сделать?
— А чего бы вы сами хотели?
— Простите мне долг.
— Ну что ж, решено. С той минуты, когда Турок встанет на колени перед этой женщиной, вы мне ничего не должны.
— Слово кабальеро?
— Слово кабальеро.
7
Ребенок уже начинал шевелиться.
Новая жизнь росла у нее в утробе, наполняя величайшей на свете радостью и неизбывной тоской, поскольку желанного ребенка Сьенфуэгоса ожидала неизвестная и, видимо, безрадостная судьба. Казалось, гигантская тюрьма всей своей тяжестью давит на хрупкие плечи Ингрид, погружая в черную бездну отчаяния.
Никто не задумывался о том, возможно, потому что такое просто никому не приходило в голову, что длинные руки Инквизиции добираются даже до нерожденных младенцев, и жестокость тех, кому, казалось, доставляет удовольствие мучить невинных, распространяется и на создания, находящиеся еще в материнской утробе.
Младенец уже страдал.
Он был частью Ингрид, самой важной частью ее тела, центром ее мыслей и существования, источником энергии, позволяющей выдержать столько страданий. Но вряд ли он мог остаться в стороне от стольких ее душевных терзаний, вряд ли не страдал, как страдала каждая клеточка ее тела в ожидании того, что предстоит.
Ребенок пока еще оставался частью собственного ее существа, и ему поневоле передавалось подавленное настроение матери.
Малыш рос в атмосфере ужаса и отчаяния.
Никогда в истории не существовало ничего страшней, чем подземелье Инквизиции, где к истязанию тела добавлялось уничтожение души. Лишь просто воображая свою смерть на костре, которая обречет их на вечные муки, заключенные сходили с ума.