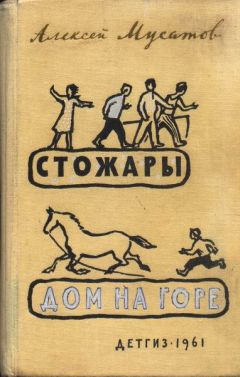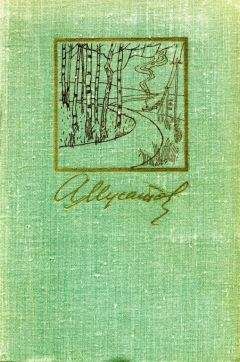Татьяна Москвина - Культурный разговор
– К сожалению, нет. Я мечтала быть певицей, но слух посредственный, и голос, кажется, не певческий.
– Жалко.
– А мне-то как жалко!
– «Я – актриса Спивака», вы сказали, и тут не поспоришь. Но вы работали и с другими режиссерами – с Владимиром Тумановым, с Львом Шехтманом. Легко ли находили общий язык? Не было ли сложностей? Есть ли у вас гибкость в восприятии этих странных зверей – то есть режиссеров?
– Бывает по-разному. Честно говоря, бывало в моей биографии, что я не находила общего языка с режиссером, и мы расходились. Но в данном случае, мне кажется, что все совпало. Ну с Владимиром Тумановым у нас вообще большая любовь и дружба, мы очень тепло и нежно относимся друг к другу. Я была бы счастлива еще раз встретиться в работе с ним. Думаю, что там, где есть человеческая задача в первую очередь, я всегда найду общий язык с режиссером. А вот в формальном театре мне было бы очень тяжело существовать.
– А что значит – в формальном?
– Знаете, когда самое главное – форма. И такая некая необъяснимая странность на сцене происходит. Ну это же модно сейчас. Вот в таких историях я себя не очень вижу.
– Есть ли на сегодняшний день какая-нибудь любимая роль, когда утром знаешь, что вечером играешь, и хорошо на душе. Бывает такое?
– Чем любимее роль, тем мне страшнее. Не могу сказать, какую роль я люблю больше всего. Они для меня все очень дорогие. Но есть роли, которых я боюсь больше. Это, конечно, роль в спектакле «Последнее китайское предупреждение». Потому что и роль, и сам спектакль, и то, что Семен Яковлевич вкладывает в него, – больше, чем я, и поэтому мне надо все время до него расти. Поэтому страшно. Так же в свое время я очень боялась «Отелло», и хотя я играю его уже одиннадцать лет, перед каждым спектаклем ужасно нервничаю и перед каждым выходом у меня есть желание убежать. Но бежать некуда – я себе однажды сказала, что бежать некуда. Выходить все равно придется…
– И это каждый раз?
– Почти каждый раз, да.
– Эмилия, а вы не так уж и много играете в театре. Нельзя сказать, что режиссер Спивак отдает все лучшие роли дочери – всего четыре спектакля у вас. Есть ли такая проблема – дашь дочери роль, а «что люди скажут»?..
– Вы точно определили. У нас очень не приветствуется семейственность. Но я не могу жаловаться. Жаловаться не на что. Я играю, может быть, не так много, но то, что я играю, – об этом можно только мечтать, и я это понимаю.
– Вот что удивительно. Бывает, что не совпадает образ экранный и образ сценический – то есть актер играет в театре одно, а в кино другое. Но чтобы до такой степени, как это случилось с вами, это просто феномен. Дело в том, что кино увидело в Эмилии лихую, развязную, стервозную, победительную, нисколько не сомневающуюся в себе, упоительную рыжую красотку. В театре она играет каких-то хромых, несчастных, застенчивых…
– По своему внутреннему ощущению я ближе к сущности, которую видит во мне театр. То, что я играла в «Тайнах следствия» на протяжении восьми лет – это как от меня и до Луны, это человек, абсолютно не совпадающий со мной. Не знаю, почему так получилось. Может быть, я попала в какую-то игровую природу в кино…
В жизни я никогда не умела себя вести, как Женечка, и мне это, честно говоря, неинтересно. Но, может быть, и неинтересно благодаря тому, что у меня уже где-то это осуществилось. Наглость, напор – это все где-то там уже вылилось из меня.
– И всё, и ушло.
– Видимо, этого и было немного.
– Но так получилось, что теперь вам только нахальных красоток в кино и предлагают? Или есть другие предложения?
– Есть разные предложения, но сложность таких долгоиграющих историй, конечно, в том, что их потом очень сложно перебить. То, что ты потом играешь, меньше замечают. Думаю, многие артисты с этим сталкивались. После восьми лет работы в «Тайнах следствия» мне было уже очень сложно найти в роли что-то новое: вроде бы и все слова уже сказаны, и все ситуации проиграны в этой истории. Конечно, я понимала, что есть опасность того, что приклеят ярлык – Женя, «Тайны следствия».
– Вы хотите как-то выучить кинорежиссеров смотреть на вас другими глазами? А как это сделать? В кино очень много делается по инерции.
– И в нашем кино особенно. Мы видим, как одного и того же брутального артиста используют все время в образе брутальных героев из сериала в сериал или из фильма в фильм, хотя на самом деле у него, может быть, есть другие достоинства актерские. И, может быть, он очень тонкий человек. Но мы об этом никогда, к сожалению, не узнаем. Мне кажется, что в западном кино все-таки дают артисту возможность рискнуть и попробовать что-то другое.
– Это когда он уже звезда.
– Вы думаете?
– А до той поры никто не будет с ним возиться, а точно так же используют…
– Может быть. Но, конечно, очень не хватает какой-то неожиданности и риска в нашем кино.
– Есть ли актрисы, на которых вы смотрите с любовью, с восхищением (кроме Аллы Пугачевой) в театре и кино?
– В кино я обожаю Одри Хепберн, и из современных актрис моя любимая – Пенелопа Крус.
– А из наших?
– Чтобы узнать актрису, надо много где ее увидеть… Меня поразила Чулпан Хаматова в спектакле с Евгением Мироновым по Шукшину – «Рассказы». Она меня потрясла. Она настолько разная, это настолько смелая работа. Она и в кино интересная, но я никогда не могла предположить, что она вот такая, пока не увидела ее в театре. Для меня очень важно, когда актриса не стесняется, не боится быть некрасивой, острой, может быть, даже уродливой – и если она не боится, она никогда не будет уродливой, потому что это значит, что она свободна, а свобода – это всегда красиво. Не развязность, а именно свобода творческая.
– И вы хотели бы так же рискнуть, сыграть что-нибудь острое?
– Я стараюсь рисковать, а что касается кино, я обожаю играть серую мышь, если мне такая роль достается. Несчастная, одинокая, бледная. Были у меня такие работы.
– А каков род удовольствия в этом? Уйти от себя?
– Мне нравится, как к этим героиням приходит счастье, а оно всегда там, в кино, к ним приходит. Я им очень сочувствую. Мне кажется, очень справедливо, что они находят свою любовь в итоге, что какой-то невероятный красавец обращает на них внимание. Такие простые женские вещи меня прельщают в этом.
– Как зритель к вам относится? Мне кажется, он вас любит. Достаточно ли? Хватает ли вам этой любви?
– Наверное, многие молодые актрисы меня поймут – когда они выходят на сцену, кажется, что все в зале делают «ооо…» Разочарованно. Я долго находилась в этом ощущении. Кажется, что все сидят и думают – ну вот зачем она вышла? И вдруг несколько лет назад я начала открывать для себя, что есть люди, которые меня любят, что есть зрители, которые хорошо ко мне относятся. И это очень приятно, значит, ты нужен. Не могу сказать, что у меня ощущение недостатка любви. Я с таким восторгом и удивлением открыла это для себя. К сожалению, все равно всегда в нужный момент ты забываешь об этом и все равно приходится справляться с собой заново.
– Скажи: есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я… Как у Пушкина. Многие актрисы делают свои поэтические программы, не было таких идей?
– Нет, потому что вообще любая форма общения со зрителем напрямую для меня мучительна. Поэтому я никогда не веду никакие праздники, не бываю ведущей или поздравителем кого-либо. Выйти и сказать что-то от себя – для меня ужасная катастрофа.
– Какова ваша жизнь в репетициях? Семен Спивак, как я понимаю, мало рассуждает отвлеченно, больше склонен к конкретному действию. Каков его метод? Делаете ли вы этюды?
– Сталкиваясь с разными режиссерами, я понимаю, что почти все они считают, будто работают этюдным методом. Только этот этюдный метод у всех совершенно разный. У нас считается, что мы тоже работаем этюдным методом. Но мы в принципе не пробуем своими словами сцену. Мы берем текст пьесы. Спивак набрасывает какую-то ситуацию, которая происходит на сцене, и мы ее пробуем. Вот так. Он, конечно, очень много наговаривает вокруг пьесы, вокруг истории, очень много приводит примеров из своей жизни, каких-то впечатлений. У него есть редчайший дар, он умеет будить в артистах чувства. Это какая-то фантастическая способность. Он умеет сказать именно то слово, которое заставит тебя плакать, или смеяться, или болеть у тебя все внутри.
– Я тоже заметила, что очень чувственные спектакли, может быть, поэтому они так долго живут.
– Он же смотрит каждый спектакль.
– Каждый?
– Свои спектакли да, почти каждый.