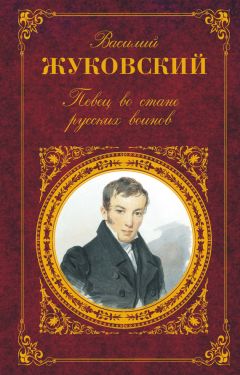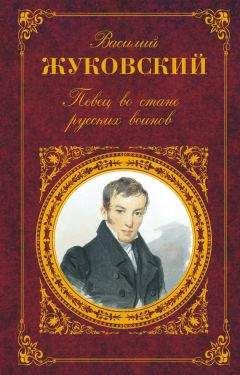Хуан Хименес - Испанские поэты XX века
СЕЛЬСКИЕ ЧАСЫ
Крестьянину и мне взамен часов —
ущелья между гор,
вонзенных в небеса:
одно ущелье — час,
другое — два часа,
три и четыре — дальние ущелья,
а стрелка — тень ползущая утеса,
который гордо в небо поднялся.
Здесь циферблат — все горы,
«тик-тик» —
цикад охрипших голоса,
пружина — свет… Вот чудеса!
Да жаль: часы мои идут лишь в пору,
когда не застит туча небеса!
Из книги
«ЗНАТОК ЛУНЫ» (1933)
Перевод В. Резниченко
«Вращенье бликов, зыбь и переливы…»
Вращенье бликов, зыбь и переливы,
мерцающие, как колокола…
Плывут по небу лу́ны горделиво,
когда в пути меня застигнет мгла.
Но лунный взгляд, баюкающий ивы,
вдруг вспыхнет, чтобы в грудь из-за угла
вонзить клинок, отточенный и гибкий, —
холодное оружие улыбки.
«Твой счет, луна, не выправишь никак…»
Твой счет, луна, не выправишь никак,
но дробь безукоризненная эта,
где свет — числитель, знаменатель — мрак,
когда один рассвет и два рассвета
прибавятся к шести, изменит знак,
и вычитаньем будешь ты раздета
по пояс, а затем, сквозь черный тюль,
блеснет нагое тело, круглый нуль.
«Наперекор соломенной воде…»
Наперекор соломенной воде
лимонных рощ встает луна, пылая,
но, отражаясь в палевой слюде,
скользит, как сабля, песнь ее немая.
Пусть эта рябь, танцовщица нагая,
тебе, луна, сопутствует везде:
она в тебя, как в бубен, бьет, но с нею
ты скована, подобно Прометею.
«Восславить ночь немолкнущим хоралом…»
Восславить ночь немолкнущим хоралом
и лунные рассыпать семена,
чтоб завтра снова ясная луна
цвела, сияя солнечным кораллом, —
как цеппелин, чьим призрачным овалом
клокочущая тьма обведена:
пусть гордеца тореро зависть гложет,
что он на нем верхом скакать не может.
ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ 1933–1934 ГГ
ОДА — ЧТОБЫ РАЗДРАЗНИТЬ ШАХТЕРА
Перевод П. Грушко
Шахтер, ты под моими каблуками.
Тебя, как виноград,
в давильне штрека мнут земля и камни.
Так возмутись же, брат, —
раб, заточенный в черный каземат.
Подчеловек! Неужто час не пробил,
чтоб, яростью горя,
эабрезжить из подземных эфиопий,
как черная заря,
убить в себе раба и дикаря?
Под толщей трав, колен не разгибая,
ты в сердце прячешь боль.
Где мужество, где суть твоя мужская?
Граненых штолен соль,
взмой птицей, прокляни свою юдоль.
Возьми у поля, у лугов зеленых
упругость корешков,
могильный страж, сожитель погребенных,
батрак из батраков.
Молчишь. Ну что ж, молчи, коль ты таков.
Я луч послал с подземной почтой в недра:
быть может, озарит
сиянье дня твое смиренье негра,
чтоб ты, как троглодит,
в пещерах не жил, миром позабыт.
Слепым орудьем, узником безглазым
живешь ты, человек.
Неужто муравьем и землелазом
ты проживешь свой век,
забившись в змеевидный, смрадный штрек?
Ты слышишь, ждет любви твоя подруга:
кровать ее пуста,
она, как пашня, жаждущая плуга,
томленьем налита,
зовет тебя, безвольного крота.
Как ящерка, она вползти мечтает
во мглу, в земную глубь,
но обушок бездушный охлаждает,
бесчувствен, слеп и груб,
тепло ее объятий, пламя губ.
Что за судьба! В земле растратить силу,
быть червяком, кротом!
Ну что ж, могильщик, рой свою могилу,
чтоб сделаться потом
в чертогах смерти каменным пластом.
БОЛЬШАЯ КОРРИДА
Перевод П. Грушко
Как Гавриил печатного станка, —
плакат{220}, обвившая все стены лента,
улыбки благовестит президента,
явление тореро и быка.
Он — солнце на рекламном небосклоне:
он обещает зрелищу успех
в таком-то месте и тогда-то.
Бычок — герой плаката —
вдовейший и свирепейший из тех,
что были у художников в загоне,
глядит с плаката, как беда,
грозя ликующим прохожим
отточенным двурожьем,
которым не ударит никогда.
Песчаный круг: поверх него
горизонтальной мельницы вращенье,
стремительное кровообращенье,
кружащейся спирали торжество.
А в ложах шали, словно ливни марта,
струятся по чарующим телам.
На нижнем ярусе бедлам:
как змеи, содрогаясь от азарта,
свистят ступени,
вращаются в змеином нетерпенье,
игра теней и света вдоль рядов,
пчелиный улей к зрелищу готов,
все ждут быков, томящихся в загоне,
хотят, чтобы тореро был бедов
и чтобы козырными были кони!
Будет пикам работа
и неистовству пища!
Пенье труб над ареной —
появленье рогов.
Вот он — час обмолота
на огромном точище
с нескончаемой сменой
карминных снопов!
Венчают гребни водопад мантилий,
мантильи дамам, как венцы, даны,
а сами дамы — бандерильи! —
в сердца мужские вонзены.
Бык черен, точно траурный лоскут,
могильный холм, где шпаге быть крестом.
Слепые кони смерти ждут,
и пикадоры{221} наготове —
с голубоватым острием,
почуявшим знакомый шелест крови.
Бумажных лент избыток, при котором
еще заметней хрупкость острой стали, —
дорогу открывая пикадорам,
зеленые и желтые спирали
расскажут им о многом.
Бандерильеро перед рогом,
открытая мужская стать —
без устали привык он нападать:
перегибаясь, в мастерском усилье
уйдя от смертоносного броска,
хаосом бандерилий,
чьи ленточки друг дружку перевили,
он оперил быка!
Спасаясь от карающей громады,
без страха показать испуг, пеон
бежит по кругу, прыгает в загон,
вминаясь в доски выгнутой ограды.
А бык, тряхнувши головой,
взметнув свое оружье,
рассеянное чертит полукружье,
стремительный и огневой…
В его шагах — отвага и дерзанье,
движенья грациозны и точны.
Одежда — свет. Улыбка — полыханье
слепящей белизны.
При взгляде на него и солнце меркнет.
За этим блеском бык мерцает — смертник
и раб его плаща, искусных рук.
Блистательных событий круг
проходит за единое мгновенье
бесстрашья, повергающего в страх
куадрилью на арене, —
цена ее участия в боях.
В порыве дерзостном встав на колени,
он тронул свитый раковиной рог,
которым бык рассек бы в упоенье
его расшитый бок.
Мгновенность фотоснимка в повороте
враждебных тел.
И может быть, вы риск за вздор почтете.
Но есть ли труд опасней,
чей этот смертью меченный удел
(о робкое сиянье, не погасни!) —
исполнить то, что сердцем захотел?!
Поистине подобное искусство
достойно музыки — народ
ее истребовал тысячеусто,
и знак балкон судейский подает.
Бык жаждет крови: злобная отвага
стекает в наклоненный рог
упрямого самца…
Уже он шеей чувствует, как шпага
отыскивает нежный бугорок
за грозными рогами гордеца.
Он божество.
Но драма в барабан арены бьет!
И, верный бычьей участи, он ждет,
когда убьют его.
Тореро в пурпур погружает
отточенную сталь. Удар!
Клинок неотразимо жалит.
И бык, поняв, что к жизни нет возврата,
свой хвост смиренно отдал в дар{222}.
Бык мертв, и колокольчики куда-то
уже ведут с арены алый след.
Свершилось все, что обещал с плаката
художник:
этот свет — был солнца свет!
МОЕЙ ХОСЕФИНЕ