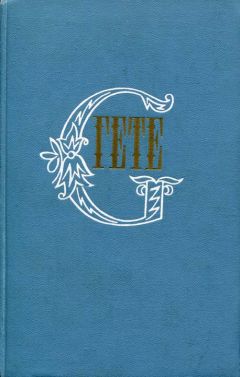Новелла Матвеева - Мяч, оставшийся в небе. Автобиографическая проза. Стихи
Адам и Ева
— Нет! — сказала Ева. — Я упряма:
Я не выйду замуж за Адама!
— Но почему и отчего? —
Скажи мне, будь добра!
— Да он калека! — у него
Недостаёт ребра.
Закон песен
Хороводы вакханок в экстазе,
Фавна к нимфе копытца несут…
Что ж, сойдет, как рисунок на вазе,
Но для лирики — чистый абсурд!
Лишь небесная страсть остается
В песнях вечной. (Лаура, живи!)
Существует, но вряд ли поется
Земноводная грубость любви.
Кто там в рощу так робко прокрался?
Притаился под сенью ветвей?
Пой! — пока на балкон не взобрался,
Не назвал Инезилью своей.
Пой — пока, по искусства законам,
Девять Муз во главе с Купидоном
Девять шёлковых лестниц совьют…
Серенады поют — под балконом.
На балконах — уже не поют.
И, тем паче, с высот геликонов
Тот сорвётся, кто тайны притонов
С гордым видом выносит на суд.
(Вас на пуговицы переплавят,
Сир! А пуговицы — пропьют!
Кто же карту краплёную славит?!
Спрячь её, незадачливый плут!)
Очень многое — так нам сдается, —
Существует. Но… ах! — не поётся.
Грусть — поётся. Надеждой на чудо,
Упованием песня жива.
Но у блуда нет певчего люда;
Вещий голос-то взять им — откуда?
(Что поделаешь — жизнь такова!)
Только тот, кто любви своей силой
За возлюбленной тенью в Аид
Мог спуститься, —
Тот песню для милой
В неподкупных веках сохранит.
Коль же скоро во всяком напеве
Похоть та же и разницы нет,
То за что же вакханками в гневе
Был растерзан великий поэт?
Жизнь — цветок. Ей закон — аромат.
Не ищи же, теряясь по сортам,
Божью искру в Калачестве Тёртом,
Друг мечты и романтики брат!
Пой — цепляясь на лестничном шёлке;
Пой — пока твои мысли невинны
И пока на губах молоко
Не обсохло…
Пути твои долги,
Твои лестницы — длинны-предлинны,
Твой балкон — высоко,
высоко…
О юморе
Говорят: «Народный юмор груб.
Грубостью простому сердцу люб».
Что вы! Юмор грубый чересчур —
Он как раз для избранных натур!
Старый вертопрах
наедине
Шепчет сальности чужой жене.
Вроде бы и юмор площадной,
Ан, глядишь, рассчитан для одной.
Муженёк в угоду девке ржет.
Посмеяться так же в свой черед,
В стороне, с улыбкою кривой,
Ждет жена соломенной вдовой.
То-то и оно, что грубый смех —
Смех кустарный, редкий, не про всех!
Не скажу, насколько он прожжен,
Да не про детей и не про жён!
Груб, а ведь не каждого берет.
(Ржёт конюшня — да и то не вся!)
Что за притча? Что за анекдот,
Если вслух рассказывать нельзя?
При мужьях нельзя, при стариках,
При маэстро, при учениках,
Там, где людно, там, где молодёжь,
При знакомых, незнакомых — то ж…
Если двое крадучись идут
«Посмеяться», третьего не взяв,
Скоро эти двое создадут
Царство смеха на его слезах.
Если шутка выстраданный вкус
Истинных артистов оскорбит,
Что же в ней «народного»?
Божусь, —
Лишь филистер грубостью подбит!
Говорят: «Народный юмор груб,
Грубостью простому сердцу люб».
Что вы! Юмор грубый чересчур —
Он как раз для избранных натур!
Вот смеются у дверей в кино.
Разве я не так же весела?
Но — что делать! — с ними заодно
Посмеяться так и не смогла…
…Спутник селадонов и блудниц,
Чёрных лестниц, краденых утех,
Смех «плебейский» — для отдельных птиц.
«Аристократический» — для всех.
Полёт летних дней
Мир полей всегда мне снился населённым.
И не верю я, что стал он неживым.
Что маленькое солнце
собой напоминает
Подсолнух, — каждый знает!
Хотя не каждый знает,
Что маленькое солнце
подвержено затменью;
Когда лучи свободны,
а диск — окутан тенью.
Я отродясь ленива;
так мало успеваю…
Я даже не на каждом
затмении бываю!
Отнюдь не вся планета
достойно мной воспета,
Но маленькою жизнью
я называю лето.
Язык детства
В детстве я встретила слово «зияние»,
Камнезвенящее, точно змея:
«Бездны зияли». Так это ж «сияние»!
«Бездны сияли!» — подумала я.
Дальше я встретила слово «нисходит»;
«С высей нисходит…» Вот снова секрет!
Всё-таки «сходит» он или «не сходит»?
Пусть он решается: да или нет?
Дальше узнала я слово «дерзание».
Эх, не считайте другого глупцом!
Если содержите в планах «терзание»,
Так и скажите! И дело с концом.
Не Микронезия, а Мокронезия!
В воде, в воде! А ещё? Нигде.
Была в ней пронизывающая поэзия
Галоши, плавающей в воде.
…Идёт усыпляющий дождь тропический,
Зигзаг прилива бежит впотьмах,
Молния
Картою географической
В чёрных показывается небесах.
Вижу несчётные грады и веси я,
Шапки магнолий, как сахарный снег…
Мокрые пальмы скрипят: «Мокронезия…»,
Вторит им гром: «Нантакет…», «Бробдингнег…»
И годы шли.
Исправленья законные
Принял учтиво мой скромный язык:
Молча словечки отверг неучёные
И от неправильностей отвык.
Уж не ведёт к ним тропинка заросшая!
Взрослым за ними — судьба не велит.
(Ведьмински-стар и лукав, кто нарочно
Эти неправильности говорит!)
Разве что… тёмной предутренней ранью,
В серую темь, когда все ещё спят,
Тихо и крадучись
В полуреальный —
Полуприснившийся выбраться сад?
Там, у стены крепостной,
У подножья
Яблонь кривых беззаботно присесть,
И соучастницей — тьмой бездорожья
Отгородясь от всего, что ни есть,
Камень достать из стены, самый крайний,
Красного дерева ящик извлечь;
Спит в нём, ах, спит в нём
Покрытая тайной
Храброго детства забытая речь!
На чествование сонета