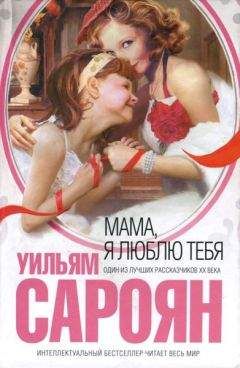Анна Брэдстрит - Поэзия США
ГЛУБОКАЯ РАНА
© Перевод А. Сергеев
Когда звезда приближалась, огромные волны
Взволновали литую поверхность земли. А когда
Звезда удалялась, они рванулись за нею и вырвали
Вершину земной волны: так из Тихого океана
Возникла луна, белый холодный камень, который светит
нам ночью.
А на земле осталась глубокая рана, Тихий океан
Со всеми его островами и военными кораблями. Я стою
на скале,
И вижу рваный застывший базальт и гранит, и вижу
огромную птицу,
Стремящуюся за своей звездой. Но звезда прошла,
И луна осталась кружить над своим бывшим домом,
Увлекая приливы, звереющие от одиночества.
У физиков и математиков —
Своя мифология; они идут мимо истины,
Не касаясь ее; их уравнения ложны,
Но все же работают. А когда обнаруживается ошибка,
Они сочиняют новые уравнения; они оставляют теорию
волн
Во вселенском эфире и изобретают изогнутое
пространство.
Все же их уравнения уничтожили Хиросиму.
Они сработали.
У поэта тоже
Своя мифология. Он говорит, что Луна родилась
Из Тихого океана. Он говорит, что Трою сожгли из-за
дивной
Кочующей женщины, чье лицо послало в поход тысячу
кораблей.
Это вздор, это может быть правдой, но церковь
и государство
Стоят на более диких, неправдоподобных мифах,
Вроде того, что люди рождаются равными и свободными:
только подумайте!
И что бродячий поэт-назорей по имени Иисус —
Бог всей вселенной. Только подумайте!
ЧТО ОСТАЛОСЬ
© Перевод А. Сергеев
Это правда, что половина величья пропала.
Машины и модернистские здания заполонили пейзаж.
Над горным Кармельским шоссе не парит орел,
На него не выходит пума — ее мы однажды видали
Лет тридцать назад. Все же, по милости Божьей,
У меня есть участок гранитной скалы, на которую Тихий
Океан навалился своей дикой тяжестью; есть и деревья,
которые я посадил
В молодости; зеленые хлыстики из-под руки
Выросли, несмотря на хищный морской ветер,
И приняты в лоно природы, и цапли сердитыми голосами
Кричат с их ветвей. За все это надо платить;
Окружные налоги съедают мои доходы, и кажется
сумасшествием
Держать за собой три акра прибрежного леса
и маленький низкий дом,
Который я строил своими руками, и ежегодно давать
за право владения
Цену нового автомобиля. Ничего, деревья и камни этого
сто́ят.
Уже смеркается. Сам я стар, жена моя умерла,
А вся жизнь заключалась в ее глазах. Мне-то надо
сосредоточиться
Прежде, чем я проникну в прекрасные тайны
Листьев, камней и звезд. А ей это было просто.
О, если бы все человечество могло постигать красоту!
Тогда бы в мире прибавилось радости и люди, быть
может,
Стали чуть благородней — как сейчас полевые цветы,
Благородней, чем род Адама.
ХАРТ КРЕЙН
© Перевод В. Топоров
ЧАПЛИНЕСКА
От наших шальных утешений — проку
будет не больше земному праху,
чем от шальных попаданий ветра
в пустые карманы одежды ветхой.
Мир изголодавшемуся котенку на пороге,
ибо любви к миру мы преисполнены, —
извлечение из уличной мороки,
сильно смахивающей на преисподнюю.
Безотказные приемчики косоглазой
судьбы, убивающей нас не сразу,
но разворачивающей перед нами морщинистый список
наших ошибок, помарок, описок,
полный сюрпризов!
И все же это искусное сведение на нет
лжет не больше, чем тросточкин пируэт.
На светопреставление не купишь билета.
Берете за душу и ведете, где свет
погашен, монашенку-душу раздетой.
Игра есть игра, но Граалем смеха
бродит луна по одиноким аллеям
над пустыми сосудами смертного праха.
Побоку — похоть, победа, потеха.
Лучше бездомного котенка пожалеем.
БЕСТИАРИЙ СПИРТНОГО
Когда вино смывает сон из мерно
горчицу дней скандирующих глаз,
оправдывает зренье неизменно
тот леопард, что выпрыгнет из нас.
Дома и люди в зеркале графина,
на брюхе у которого лежу,
а он — урчит. В ладоши звездам винным
я хлопаю и тени их лижу.
Путь от Большой Медведицы до Малой
(панели стен из снега и желтка).
Пинцет улыбки рот раздвинул алый,
ее глаза — бубенчики. О, как
он пьян, она юна, как время вяло…
Где рычаги, какими движим змий,
чья кожа — оттиск времени — пятниста,
лазурь вкруг глаз и, черт меня возьми, —
чьих волхвований в небеса вонзится
стрела: его иль — пущена людьми?
Подмигивают мне в окно обманы,
и ревности ее колючий еж,
хлеща из блюдца, хнычет, в стельку пьяный,
и чуть ли не хватается за нож.
Уходит август, плюхаясь в туманы.
Вино живет в алькове, в алтаре,
творя свою чудовищную волю.
Тела не просыхают на заре,
как рюмки, и, стигматами раздолья,
резцы разгрызли роз смятенный куст.
Стакан мой пуст! о, дивные ублюдки,
плодимые свободой, что сулит
вино — пропутешествовать навзрыд
сквозь мирозданье без чужой побудки!
В моей крови, за трезвости порогом,
колотится в капкане чистота,
колоколов святая простота
наяривает адом и пороком,
яд изрыгают, рыкая, уста:
«Проклятье вам, исчадия искусства!
Коктейль из желчи, страсти и тоски!
У вас есть зубы, у земли — клыки,
они острей. Пространства сквозняки
закрутят смерч, и место станет пусто,
когда воздастся людям за грехи.
Восстаньте, кто стоит, из лютой скверны
опивков и объедков и в стакан
плесните кровь из горла Олоферна,
а не твоей, Креститель Иоанн.
Вспорх страсти! ты обманчив и недолог! —
Уже занес булавку Энтомолот».
НА БРАКОСОЧЕТАНИЕ ФАУСТА И ЕЛЕНЫ
Порою Мысль не блещет новизной,
но медною монетой в миллионах
расходится вселенскою казной,
поделена на день с его делами
и думами, на мастерский бейсбол,
на шифр стенографисток, на цитаты, —
и надо всем то ль нимб, то ль ореол,
и крылья то взлохмачены, то смяты.
Под воробья причесаны крыла
у Мысли; вирши вышвырнуты напрочь;
опушки дня, одышки мостовых,
битком набитых, зори альпинистов
и жемчуга искателей — насильно
уведены в аптеку и в цирюльню,
а проявитель вечера так темен,
что оттиски, как девственность, бледны.
Такова картина мира для тех,
кто расхристан любовью к вещам
несочетающимся…
И все же, забывая заплатить
подчас за путешествие в трясучке,
трясешься в ней, чтоб чашу зла испить.
Там Ваши очи чуть ли не внезапно,
едва ли не повсюду предо мной —
щедры, хоть неуступчивы отныне, —
и вроде бы веселье за окном.
Таков мой путь дотронуться до Ваших
рук, пересчитывающих все ночи,
оставшиеся из уже пропавших с
зелеными разводами реклам.
Чернеет в глубине ночных артерий
кровь радости, густеет кровь потери, —
я просыпаю лунный свет речений
на снег, уже коснувшийся очей, —
и наступленье сна как преступленье.
Взаимопревращение вещей
и Ваш глубокий стыд, когда экстаз
живот и члены радугой потряс
и хлынул горлом света и дождя…
Неотвратим чудовищный зазор
меж тела с телом, голубой прилив
той крови, что течет, полузастыв, —
так твердь, светясь, перетекает в смерть.
Но я хочу Елену удержать,
исчезнувшую от единой мысли
о том, что узы жарких рук не так
прочны, как почва или жизнь железа.
Елена, или жарче тот огонь,
что жжет в цепях погибели, не плена,
вдали от миллиона жадных глаз,
белей, чем грады белые, какими
прошествовала, руша на себя
вселенные отдельных одиночеств?
Последний взор, прикованный к тебе,
прими, не обделив его, зане
таинствен и единствен он и не-
приметнейший, но целый мир в огне.
Медный гипноз этих труб вокруг,
топот тарелок, и радость ног,
и магнетизм этих тремоло —
опера-буфф на полный звук!
Что за пассажи! и рикошет
с крыши на крышу. Зачем Олимп,
если в раю, и ведет восторг…
Рыщут амуры-негры меж звезд!
Тысячи светов сбивают с ног
там, где мелодий обрушен град.
Тени витают, и сыплет с них
снег проигравших игральных карт;
легкий галоп до рассвета светел —
переполох унимает петел.
Попросту, попросту — коловращенье,
новые поиски и приключенья,
пьяным кларнетам гульба по губам, —
столь же изящно, без тени стесненья,
пали со мной, как вступили в Пергам.
Бег облаков над Эгейскою далью —
дивен и дивно неведом уклад.
Вся безмятежность, Вы восседали
в кресле-качалке, и рушился град.
О, я познал эмпиреи металла,
райских кукушек малиновый звон
над барабанами эсхатологий,
дев о кончине улыбчивый сон,
тенты на пляже и отпрыск лебяжий —
первоизданье гротескных времен.
Музыка эта меня будоражит.
Вечной виною и вечной весною
песня сирены из пламени свеч:
располосованная новизною
встречи — мы жаждем, наследуя, встреч.
Хмуростью ль этой ответим улыбке —
той конькобежицы по небесам,
чертящей в бурю узор без ошибки.
Вершительница судеб в дивной шляпке,
где я зарю встречаю за рулем,
в ущельях тьмы, искусница смертельных
запутанных и нежных номеров,
твой шепот не рядится в сталь —
убийца
во имя веры! и тебе разбиться,
как смертному какому-нибудь, час.
Но дай, как ветру, вырваться, излиться
тоске и состраданию из нас.
Мы мчимся,
из скорости искро́ю рвется смерть,
и шестерни визжат от напряженья, —
мы мчимся по дорогам, схаркнув злость
лужей на луг, мы мчимся, глядя дальше, —
воронки слез, пустынные дома,
похожие на верных и забытых
уже старух — ведь время не щадит их.
Мы не забыли, снайперша, ни тех
ветвей внезапных, ни воздушных долов,
ни куполов червонных городов!
Наперерез обрушенному небу
открыть огонь — отступится волна,
скала отхлынет, где промчимся вихрем.
Мы выжили, об этом не прося,
и настоим на праве говоренья,
пока сырая темная стезя
не вынесет в бессмертье и Десница
скользнет с ресниц Елены на чело —
насытить немотой и благодатью.
Утюг, махорка и одеколон —
в Типерери, небесный новобранец!
Душе пора укладывать свой ранец,
пока вокруг колокола и плач
и прах земной — остыть ему — горяч.
Пуп серповидный неба над водою;
рукой Эразма невод заведен,
искрит мотор лозы и розы крови,
фонтаном брызжет новое вино,
ты крал ее, губительницу Трои,
ты брал ее, но это все давно.
Так высмей покаянье жалких дней,
наложенное на ее дыханье,
на то, что было златом, — а ценней
ее волос — нет злата у теней.
Восславим времена, когда рука,
круша и рушась, молотила небо,
за пядью пядь, отчаянья поверх,
превозмогая торги, речь и грех.
БРУКЛИНСКОМУ МОСТУ