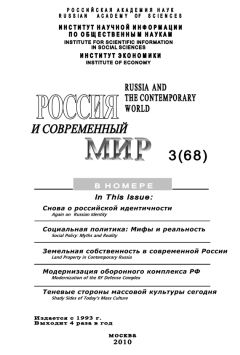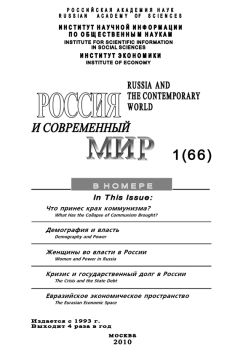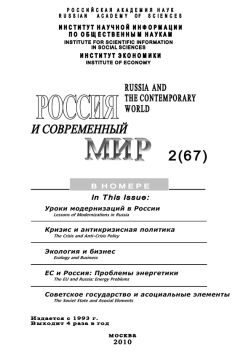Григорий Ширман - Зазвездный зов. Стихотворения и поэмы
7 сентября 1947
"Береза светлая и темный дуб..."
Береза светлая и темный дуб
В одном лесу росли четой неравной.
Она листвой кипела своенравной,
А он молчал и был на слово скуп.
Зато в грозу, когда древесных куп
Ветр ярый не щадил, бил гром в литавры,
И дуб трещал… «Я заменяю лавры! –
Был слышен голос будто многих труб. –
А ты на что годишься, друг-береза?
Бела, что лебедь, да нежна, что греза,
Ан каши б не хотел отведать я!..»
И дуб (намек был кстати) стал клониться
К земле, сраженный громом, и, кряхтя,
Добавил: «Плачь, ты плакать мастерица!»
"Державин мог вместить в одной строке..."
Державин мог вместить в одной строке
И жизни пир, и смерти узкий ящик.
Он грифелем по аспидной доске
Водил, как ученик, рукой дрожащей.
И видел он и пастбища, и чащи,
«Рев крав» он слушал, а невдалеке
Журчанье струй, и в дряхлом старике
Смеялась кровь поэзией блестящей.
Кто выдумал, что слог его тяжел?
Зерно здесь правды есть, но я нашел
В нем плотность звезд и тяжесть золотую.
Она пленяет слова теснотой
И мыслей широтой чудесной той,
Что превращает в стих строку литую.
"Пришла моя пора, я вышел в люди!.."
Пришла моя пора, я вышел в люди!
Во-первых, я уж больше не верблюд,
Хоть я еще горбат, но меньше лют,
Ведь ездят не на мне, а на верблюде!
А во-вторых, я вижу в каждом блюде,
Что каждый день в столовой подают,
Гастрономический как бы уют.
А в-третьих, всюду урны, в них и плюйте!
Я разве не культурный человек?
Советский от ногтей ножных до век,
До темени, что Кара-Кума вроде.
Туда б сейчас растительность, друзья!
Об изменениях слыхал в природе…
Я выпивший, а почему нельзя?
"Без слов «Сонет Петрарки» слышу Листа..."
Без слов «Сонет Петрарки» слышу Листа.
Душа уходит в дальние века,
И грусть моя прозрачна и легка,
Хоть музыка мучительна и мглиста.
Я сложный вижу бег перстов артиста
По шатким клавишам, одна рука
В басах завязла и не далека
Другая, что доводит звук до свиста.
Лаура, сжалься над безумцем тем,
Других который не находит тем,
Кроме любви своей к тебе, Лаура!
Он полон чувств и мыслей, он – поэт,
Его лицо то солнечно, то хмуро, –
Твоих очей на нем и тень и свет.
"Спускаюсь в ад, мне жутко одному..."
Спускаюсь в ад, мне жутко одному, –
Темно ведь под землею, как в могиле.
Тень чья-то… Ба, да это же Вергилий!
Я прижимаюсь в ужасе к нему.
Мы в самом пекле, в огненном дыму.
Я слышу вопли душ, – друзья, враги ли
Кипят в смоле в обнимку, – не пойму…
«В чем смысл сей казни?» – «Все в поэтах были
И пели как бы врозь», – Вергилий мне.
А я: «Учитель, с Вами мы вполне
Живехоньки, забыли нас – вот чудо!»
«Чертям с полугоря – других возьмут!»
«А нам бы к выходу!» – «Напрасен труд!
Знай, никому нет выхода отсюда!»
"Не только лишь у женщин, и у рек..."
Не только лишь у женщин, и у рек
Истерика бывает… Так, наш Терек –
Неисправимый, видимо, истерик
Или холерик, хоть не человек.
А Кама – умница, течет весь век
Спокойно, хоть порой подмоет берег,
Но глубь ее не требует промерок,
Плывешь по ней, и плавен вод разбег.
А Волга-матушка мелеет явно,
Хоть грузы на хребте своем исправно
Нам переносит с севера на юг…
Очнулись Вы, а думал – Вам каюк!
Затылком в пол, – нельзя же так, мой друг,
Любезнейшая Ксенья Николавна!
"«…А кто за вас заплатит, Пушкин, что ли?»..."
«…А кто за вас заплатит, Пушкин, что ли?»
За всех он платит, действует за всех.
Я возмущаюсь, подавляя смех,
И людям говорю, кривясь от боли:
«Поэт не лошадь, умер он тем боле!»
Да нет же, – отвечают, – жив на грех,
Имеет и поныне он успех…
«В подлунном мире буду жив, доколе
В нем будет жить хотя б один пиит», –
Нерукотворный памятник гласит.
Стоит он на высоком пьедестале, –
На сердце держит руку он одну,
Другую ж… Насмехаться чтоб не стали,
О той, что сзади, не упомяну.
"В то время, отдаленное от нас..." (армянская легенда)
В то время, отдаленное от нас,
Жил в мире человек с живой природой.
И не бродили по лесам нимвроды,
И безмятежный Авель стадо пас.
Сияло солнце, и в заката час
Покоем наполнялись неба своды,
И золотели рек немые воды,
И лань в траве стояла, вся лучась.
Но мрачный дух на мир взирал со злобой.
И поднял камень дьявол низколобый,
И лань убил проклятый Давалу.
И, кровью весь обрызганный без славы,
Он превратился в черную скалу,
В холодный мрамор с жилкою кровавой.
"Живут в Париже лошади и люди..."
Живут в Париже лошади и люди, –
Тогда никто еще не знал авто.
Он днями бродит в выцветшем пальто,
Обросший бородою, как в безлюдьи.
Он любит ветчину, и в этом блюде
Он чувствует, быть может, как никто,
Сирени аромат и небо то,
Что в розах, но бюджет поэта скуден.
Он без гроша, и ни пред кем колен
Не склонит он – он все-таки Верлен!
Одна хоть завалялась бы монета!
А в золотой душе – сиянье, пир…
И строчку знаменитого сонета
Он начинает: жё сюи лямпир…
"Орфей умел когда-то чаровать..."
Орфей умел когда-то чаровать
Опаснейших зверей игрой на лире,
А звери жили и в античном мире,
Хоть многим мнится, что там тишь и гладь.
И львы переставали вдруг рычать
И о кровавом забывали пире,
Всё круг косматых становился шире, –
На мордах их смирения печать!
Но в мифе ничего не говорится
О поведении людей… И мнится,
На них навряд ли так влиял Орфей.
Он открывал им в будущее двери,
Он песни им на лире пел своей,
А люди продолжали жить как звери.
"Светящаяся дышит темнота..."
Светящаяся дышит темнота,
Пылают в ней восходы и закаты, –
Рембрандта кистью не писать плакаты,
Да и палитра у него не та.
Не слишком ли она была густа?
И современник, ужасом объятый,
Смотрел на холст живой, но темноватый,
И отворачивался неспроста.
Что видел он? – Библейские мотивы,
Портреты, – ни один из них не льстивый, –
Пейзажа еле видимый намек…
В том мастера он видел безрассудство, –
Ему, конечно, было невдомек,
Что может пережить века искусство.
"Я в мае к умирающей соседке..."
Я в мае к умирающей соседке
Был приглашен как доктор, чтоб помочь.
Стояла дивная над миром ночь,
Пел соловей, шептались там, в беседке.
А здесь лекарства, иглы, шприц, пипетки…
Смерть с жизнью борется… Сосредоточь
Весь опыт свой, будь господом точь-в-точь,
Дхни жизнь в сей труп, стон издающий редкий.
Всё пробовал, я сделал всё, что мог,
Но я, по-видимому, был не бог, –
Бо испустила дух больная эта.
Навек запомнил я ее глаза,
В них отблеск был того, быть может, света…
Вот, сын мой, жутко как! А он: «Буза».
"Подвал он – разумеется, в газете..."