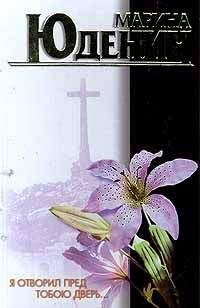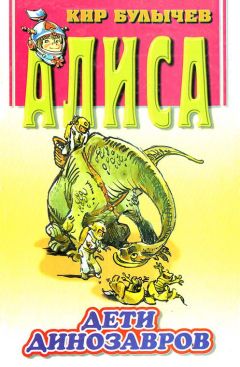Дмитрий Барабаш - На петле времени
Бертолетова соль
13Я один остался в поле
боя неба и земли.
Мы три пуда съели соли —
бертолетовой зимы.
Мне ж теперь – еще три пуда,
словно заключил пари…
Ты куда слинял, паскуда?
– Милый мой, ты у меня внутри.
В ту тоску, не ведая закона,
как заблудший Фауст из огня,
я позвал. И старая икона
мне кивнула. Не прошло и дня,
словно испарились некрологи,
позабылись слухи, словно ты
не ходил по той чумной дороге
и не пил отравленной воды.
Появились новые рассказы
о твоей не сказочной судьбе,
будто ты посажен за проказы
в психбольницу новым КеГеБе.
Хором древнегреческих трагедий,
родом из студенческих времен,
как медведи на велосипеде,
выехали несколько имен.
И запели вести о герое
времени не нашего, не тех
деловых побудок и отбоев,
где умами властвует успех.
Чем-то ты их сдуру осчастливил —
и решили клетку приоткрыть,
выпустить по солнечным извивам
погулять и рыбку половить.
Встретились. Молчали. Отвечали.
Без вопросов. Точно и впопад.
И березы гривами качали.
И молчали тени за плечами
И боялись посмотреть назад.
Пили пиво крепкое со спиртом,
в соль земную окуная хлеб.
Был одет ты в тело, словно в свитер,
как на кол натянут на скелет.
Вот в одну из встреч таких,
где слово уходило на вторую роль,
ты сказал, что там со мной готовы
говорить, – и ты уж соизволь…
Зеленое солнце
Не вдаваясь в длинные детали,
я скажу вам, что за пять минут
я узнал так много, что едва ли
сто веков в свои кресты вожмут.
То – оно, – похожее на солнце
и на книгу в круглом переплете,
где слова меняются от взгляда,
где все было, есть и будет вечно,
где одной рукой подать до ада,
а другой – до рая… Бесконечно
все, что появилось. Все, что будет, —
ведомо, и не мешают страсти.
Где разбить единое на части
невозможно. Где земля – песчинка.
Где вселенных больше, чем иголок
хвойных в неосвоенной Сибири.
Где пушинка весит больше гири.
Где снежинка светит дольше солнца.
Говорить об этом – все равно что
говорить сто тысяч лет без права
переписки. Тысяч лет без права,
хоть на миг прерваться, хоть на слово
отклониться влево или вправо.
Не в земной и не в телесной власти
рассказать о той бескрайней силе,
но пытаться буду
даже после —
и в золе, и в слякотной могиле.
– Я увидел луч зеленоглазый,
в нем живые буквы слой за слоем…
Интересно… у тебя зеленый?
Я там вижу красные глаза.
Вот и все, что мы тогда сказали.
Три страницы света пролистали
в сказочном альбоме бытия.
Извините за нелепость «я»
вылезшего автора в рассказе
о герое во вторичной фазе
безвреме́нья, на петле ремня.
Жизнь возле жизни
Что же было дальше,
что же дальше,
или после, или рядом, возле?
Что ни вспомню —
сладкий привкус фальши.
Этот самый горько-сладкий запах.
Желтая, моргающая осень…
Снова появились люди в шляпах,
и упала на бок цифра восемь.
Солнце в спицах велотренажера,
рвущего реальность на полоски.
Собирали пазлы. Шум мотора
и голодных кошек отголоски.
Ночь сходила мимо, как на сцене.
Так же тихо наступало утро.
Никакого смысла нет в системе.
Во вселенной звезды словно пудра,
сдунутая женственным гримером.
Люди расползаются по норам.
Книги расставляются по полкам.
И сквозь взгляд со лба спадает челка.
Тени от фонарного столба
тоньше волоса и многократно дальше.
– Помнишь, у прекрасной португальши,
что училась с нами курсом старше,
был в глазах испуг и глубина,
словно бы дотронулась до дна
и забыла все слова и нравы.
Так она курила только травы.
И такой отравы, как она —
ни один, не то что ни одна,
не пускал по дребезжащей вене.
Ты ж торчишь, почувствовав в системе
перебой. И взгляда из окна
хватит для испуга и покоя.
Не запой у нас, мой друг, другое —
пробужденье от земного сна.
Вслед за осенью, как бы минуя зиму,
наступила новая весна.
Время выпало. Там ничего не помню.
За секунду дней наверно сотню
и полсердца отдал за коня,
чтоб дожить до следующего дня.
Ты как будто знал. И глазки ту́пил,
издавая мелкие смешки.
Под глазами черные мешки.
Банка водки и цыпленок в супе.
Пили до ночи. И тут ты захотел
повидать жену. Их было много.
Плотские радости
Герой наш в женщинах искал
ни прелесть глазок или тела,
ни щедрость ласок, ни себя,
а то, что женщина хотела
в себе самой изобразить,
сыграть, напудрить, приукрасить.
Любую мог мой друг уластить,
себя позволив соблазнить.
Любил ли он? Кого любить?!
В нелепом, глупом и дебелом
ребенке? Все равно что мелом,
штрихом небрежным по доске,
наметить милую мордашку
с искринкой хитрой на соске
и сохнуть от нее в тоске.
Он был мудрей. И даже в школе,
когда замучили прыщи,
не дал рукам игривым воли.
Сказал себе: «Давай, ищи
решенье суетной тревоги».
И тут же подвернулись ноги
из класса старше, жаркий рот,
и он продвинулся вперед
в своей практической науке,
что надо делать все от скуки
и ни дай Бог наоборот…
Бесстрастно теребя за кудри
и глядя в мокрые глаза,
он был как свежая роса
на паутинке. Стрекоза
вокруг себя кружилась в утре,
в него как в зеркало смотрясь.
И паутины липкой вязь,
и паучка веселый хобот…
Он знал, что даже жалкий хоббит,
земным наукам обучась,
всех аполлонов и сократов
в постельной битве втопчет в грязь.
«Брезгливость? – глупая уловка,
которой прикрывают лень» —
так порешил наш полукровка
и женской плоти пелемень
к пятнадцати годам откушал,
забыв томленье и прыщи.
Ах где они?! Ищи – свищи
тех страстных бабочек порханья,
румянцы, спертые дыханья,
альбомы с тайнами души,
прекрасных принцев ожиданья,
и ручек нежные дрожанья
под простыней в ночной тиши…
Мне не в чем укорять героя.
Зачем болеть и голодать,
коль можно яблоко сорвать
и съесть, не нахлебавшись горя.
Цинично с глупостью играть?
Еще циничней – ей поддаться.
Раз дурочки хотят играть,
так почему не поиграться?!
Они играются всерьез!
Они готовы прыгнуть с крыши!
Принц их на остров не увез,
на бал их не умчали мыши…
Их жизнь не потому скучна,
вульгарна и как ил кромешна,
что мудрый принц их свел с ума.
Когда б Офелия безгрешна
была сама…
Она б с ума…
И так смешно и безутешно
всему назначена цена.
Лолита! Тоже мне Лилита…
элита женского ума.
До Беатриче ль Боттичелли?! —
уж лучше посох и сума.
Итак, о женах.
Было их штук шесть,
а может быть, и восемь.
Все в романтическом гипнозе,
в быту и как-то между книг,
где оставались промежутки.
А чтоб занять их скорбный ум
наш друг плодился. Детский шум
глушил сомненья и с похмельем
был очень схож. Отцовский нож,
что плотницкий, стругал из плоти
черты знакомого лица.
Они как на автопилоте
стремились повторить отца.
И если первую забаву
я понимаю – ласки баб
смягчают каверзный ухаб
судьбы. То шустрое потомство —
котом, мурлычащим в ногах,
хвост задирает и смеется:
«Ты скоро обратишься в прах,
и все твое ко мне вернется».
Дети безумия
Тургенев! Трах да тибидох.
Зачем ему отцы и дети?!
Уроки, зубы, ласки, плети
и геморрой пока не сдох.
Как будто бы он думал так,
что «воплотится в каждом чаде
глава неписаной тетради,
вершина призрачной горы,
к которой я стремлюсь добраться.
И та, которая за ней,
и те, которые за ними, —
вершины мыслящих детей!
Я на земле останусь в сыне!
И буду дальше продолжать
к небесным высям восхожденье.
Так шли мои отец и мать…
Но, черт возьми, законы тленья!
И время узенький удел!
И кандалы на бренной мысли…
Чего же я от них хотел…
и почему они прокисли,
те щи больничные…
и вкус
металла на капусте
метла над улицей светала,
и в каждом взмахе листик грусти
ложился мне на одеяло…
Вот санитарка записала,
что я хочу писать о Прусте…
Она вчера запеленала
меня в крахмально-синем хрусте
с улыбкой детского оскала,
когда наслушалась в Ла-Скала,
как Демис Руссос пел о чувстве,
ее халат белее сала
и Вуди Алена в искусстве.
С детьми уже, хлебая горя,
Лжедмитрий приближался.
Воря
ему казалась неприступней
Днепра и Волги.
Злые волки
объеденной игрались сту́пней
Сусанина.
Дни становились злей и судней.
Одетый в шкуру печенег
ел печень наших серых будней.
И в небо капала с ножа,
как снег, над льдинами кружа,
по капле каждая секунда.
В дежурном свете, нежно ржа,
к звезде, усевшись на верблюда,
копытом оставляя след,
и там – невидимы при этом,
шли ангелы… Автопортрет
вождя смотрел на нас,
секретом
и страхом собственным страша.
Когда б писал во сне, поэтом
я стал бы.
Черная дыра
рассвета всасывала мысли,
способность прыгать тут и там,
по крышам лазить и кустам
взбивать нахохленные перья.
Реальность гаже и тошней,
в ней невозможно даже дней
порядок лестничный нарушить.
Когда я вышел из дверей,
я оказался весь снаружи.
И силюсь вспомнить и решить
недорасслышанное слово.
Я знаю, что оно основа,
но снова начинаю, снова —
куда ступать и не грешить?
Семейная рассада