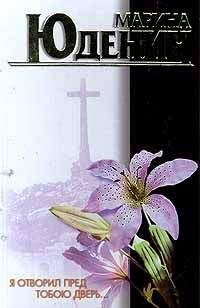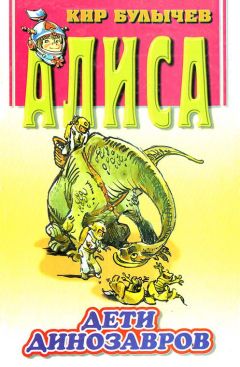Дмитрий Барабаш - На петле времени
О Русь. O ru…
39Приятен русскому стиху
комфорт немецкого порядка,
туники греческой простор,
английской речи лаконизмы,
испанских вымыслов костер,
еврейской грусти укоризна.
Приятны русскому стиху
наряды мыслящих народов,
которым ни к чему блоху
подковывать и огородов
во чистом поле городить.
Он, словно губка черноземья,
готов любые ливни пить,
выращивать любое семя,
и ключевой водой поить
земли измученное племя.
Он отличается от всех
своим безудержным простором
и тем, что вечно смотрит вверх
придурковатым светлым взором.
Ему и ритмы нипочем.
Ему и рифма для улыбки.
И, как смычком, тупым мечом
он водит по волшебной скрипке.
А то, что путает порой
весну и осень между делом,
мороженое ест зимой
и междометьем неумелым
сбивает с мысли, как хлопок
над ухом юного буддиста, —
так это все – астала виста!
И, как еще там, – гутен морг!
Вот так и я с моим героем,
усевшись по весне в такси,
к промозглой осени примчался.
На небе лунный шар качался,
и звезды серебрились роем
в его расплывчатом луче.
С пустою сумкой на плече,
пронзенный воздухом морозным,
на перепутии подзвездном
затекшей правою рукой
я тормозил к Москве попутки,
а мимо проносились сутки,
недели, месяцы, и вот —
сюжет нащупал поворот.
Он позвонил мне из забвенья,
как будто не было зимы,
и возвратился в поле зренья
из непроглядной тишины.
К стыду сказать, мы снова пили,
перечислять не буду, что.
То приземлялись, то парили,
то спали, кутаясь в пальто.
Мы договаривали споры
из очень давних наших лет…
О том, как можно мыслью горы…
Или, не оставляя след,
во все возможные запреты
входить невидимо, и явь,
лишь меткой мыслью продырявь,
прольется в новые куплеты,
точнее рифму присмотрев.
Но, к сожалению, припев
толпы затмит остатки света.
Каприз и нрав народных масс
в беспутстве с девичьими схожи.
И здесь хоть вылези из кожи,
им выставляя напоказ
свою любовь, свою заботу —
одну лишь скуку и зевоту
ты вызываешь к разу раз.
Вопрос: «Зачем?». Любовь народа
страшнее постаревших жен.
Он, зная брод, не любит брода.
Им постоянно проложен
другой – трясинистый и хлипкий,
ночных исполненный страстей,
опасный путь. Он без ошибки
скучает. Если не тонуть,
то и грести – пустое дело.
Бродить по тореным путям,
где ни к чему святая вера,
и воли не давать чертям?!
Все это, братец, не по-русски.
Здесь ничего не изменить!
Так нищий ангел в рваной блузке,
напившись, хочет воспарить,
но видит только птичьи гузки,
асфальт, бетон, скрещенье плит.
Не потому ль у нас пиит
за мукой ищет новой муки,
за смертью новой смерти ждет,
и к славе простирает руки,
и отжигает, а не жжет
глаголом что-то в подреберье,
и воспевает суеверья,
туман и вечных птиц полет…
Не созидательное дело
на волю русскую пенять.
Как рассказать тому о целом,
кто даже часть не хочет знать?
Обманом вывести из комы
не сможет ни один колдун.
Должны быть истины искомы,
чтоб их найти. Ленивый ум
прильнул к перилам и опорам,
к моралям, к принципам, к судьбе,
оставив мысли за забором,
а сор, как водится, в избе.
Когда-то нам казалось: чуть
подправишь строй, наметишь путь
и точный образ приурочишь,
как между каверзных урочищ
пробьется жизнь, проступит суть.
О молодость, там все – в новинку.
Светло, легко, работа в кайф…
Не жизнь, а искрометный драйв!
Судьба похожа на картинку
из элладийских букварей,
и кажется – открой любую
из окружающих дверей, —
найдешь богатства, примешь веру
надежду, счастье и любовь,
и полную чудес дорогу,
и все, о чем молился Богу.
Но лишь чуть-чуть вглядевшись в двери,
остановившись лишь на миг,
поймешь, что не дают по вере.
И если ты уже привык
к перилам сладкого обмана,
то ждет за каждой дверью яма.
Во что ни верь! Здесь напрямик
дороги отупляют разум,
и надо щупать землю глазом,
здесь каждый шаг, как первый шаг.
Ты сам себе ишак, вышак.
Стремишься к сказочным парнасам?
С Пегасом может и дурак,
а ты давай-ка без Пегаса,
зажав желания в кулак.
Так вспоминали мы с героем
забавы юности шальной,
срывая листья слой за слоем
с головки луковой. Слезой,
как прежде сладостным задором,
блестели глазки. Горечь сказки
нам не казалась больше вздором.
Многосерийное кино
теперь могли единым взором
за полсекунды охватить.
Прослушка. Ночной разговор (диалоги)
А если все сорвать мгновенья, —
спросил ты, – что найдем в конце?
– Вот тоже, луковое чудо,
игла в кощеевом яйце!
Ты знаешь сам – и две страницы,
еще не читанной судьбы,
способны нас загнать в границы,
забить в телесные гробы.
А может так, мой друг, случиться,
что, отразившись, луч назад,
к единой сути, возвратится
и растворится в ней стократ,
забыв и в то же время зная
о том, что где-то есть земля,
как плод, как воплощенье рая —
одно из многих, из нуля,
который был всему основой
из круга жизни – колеса.
Рожденный замысел из мысли.
Из безвременья в полюса,
где между минусом и плюсом
есть равновесие любви.
– Жаль, что случится не узнаем
и не увидим, что творим.
Для тела тленного един
любой финал – конец один.
Забвенье дел, забвенье «я»,
здесь белый дым, а там земля.
Зачем пытать себя трудами
неблагодарными, когда
ты можешь царствовать при жизни
и не испытывать стыда
за лень, предательство и жадность.
Жать наслаждений урожай.
Мы знаем, схожи ад и рай:
и там, и там – туман забвенья.
Все люди дорожат собой.
Инстинкты самосохраненья
не зря дарованы судьбой,
природой, Богом и сознаньем…
– Что в нашем теле обезьяньем
нашла божественная длань?
Куда красивей – тигр, лань,
в конце концов, орел, герань
или пронырливая крыса!
– Не понимаю почему
здесь независимо от века,
куда не бросит человека
судьба, на трон или в тюрьму,
что тать вокзальная, что знать,
предпочитают в Бога верить,
как в призрак истины, чем знать.
– Своим аршином страшно мерить.
Ни отвертеться, ни соврать.
Он постоянно за спиной,
как голос с ноткой ледяной:
«Кого ты хочешь обмануть?
Тебе открыт и ясен путь».
Вморгнув глаза, зажмурив уши,
идем как по морю – по суше,
в земле стараясь в утонуть.
Но в этом-то и наказанье —
сон наяву, жизнь без сознанья —
страшней и гаже, чем врастанье
в сырую почву и траву.
– Вплетая в Библию, в Коран
единой истины осколки,
мы предпочтем кресты и порки,
поповских присказок туман,
таланту, выданному нам.
– Вот говорили «голос был»,
который звал к священной цели.
– Откуда? И куда он сплыл?
И был ли он на самом деле?
«Мне голос был»! И мне! И мне!
Однажды. Вдруг. И ниоткуда.
В своем ли девица уме?
Принц убежал. Давайте чуда,
такого, чтоб почти всерьез,
чтоб по хребту бежал мороз.
На принца жалко тратить слез.
Куда милей Христос и Будда —
пристойней, строже… И в стихе
ни слова больше о грехе.
Вам голос был дарован с детства.
Его вы слышите всегда.
И сколько силы и усердства,
бесстыдства с маскою стыда
вам нужно, чтоб сказать краснея:
«Мне голос был. Он звал меня!».
– И много книжек прослюня,
они не делались умнее.
Ты говоришь: стихи – недуг.
Сладкоречивые извивы
все той же хитрости и лжи.
А если вычеркнуть из них
угоду слуг перед толпою
читателей,
улыбчивую лесть
пристойным пошлякам и дуралеям,
окажется, что в мире есть
не больше сотни чистых строчек
на миллиарды вредных книг.
Родил всего один глоточек
вселенской мудрости родник.
– Я тоже вижу тлен и сырость.
Кривлянье жен, судьбу детей.
Но где мне взять живую милость
безукоризненных идей,
способных вдунуть в их останки
смысл, направление и дух?
Я сам застрял на полустанке,
еще между таких же двух
платформ косых в пустых просторах.
Здесь поезда не тормозят.
Кленовых листьев звездный ворох.
И запах преющих опят.
Ночь бесконечна. Рвана речь.
Как рана где-то меж лопаток.
Сменить бы парочку солдаток
на психиатров. Нас упечь
могла бы и прослушка
без прокурора в желтый дом.
Зачем таким курок и мушка? —
Лечить лекарством и трудом!
Поэты лижут у народа
и сладко ластят знать и власть,
а тут два конченых урода
хотят на все с прибором класть!
Пусть только высунутся уши
их фармазоньи из травы —
пойдут учиться бить баклуши
на корм прожорливой молвы,
чтоб прочим было неповадно.
Пока ж пусть бредят до поры».
Мы из окна секли прослушку,
ушей голодных не щадя,
фургон конторский взяв на мушку
кривого ржавого гвоздя,
который из оконной рамы
торчал, как стержень нашей драмы.
– Смешно устроены законы
и тайны наших государств —
медали, ментики, погоны
вредней психушечных лекарств.
Они питают страсть и злобу,
гордыню тешат, то бишь честь.
Сам человек себе в утробу
спешит, чтобы себя же съесть.
И превратившись в двухколейки,
как плексиглазый ползунок
логарифмической линейки
ползет, считает, видит прок
в своем карьерном продвиженье
от цифры – цать до цифры – цать.
Скользит до головокруженья
в стремленьи править и бряцать.
– Но государству без порядка
нельзя. Толпа страшней, чем строй.
Когда растет по струнке грядка,
нет куража времен упадка
и русский бунт трясин кровавых
не так кошмарит шар земной.
– Здесь лупят левых, рубят правых
и месят тех, кто стороной
прокрасться думает фривольно.
Как ни старайся – будет больно.
– Что власть, что бунт – одна концовка:
нагайка, пуля и веревка.
– И ничего нельзя поправить?
– Удобрить грядку говнецом,
кощея злого обезглавить
и жизнь закончить молодцом?
– Как с властью ни играй, ни путай
следов невидимых трудов,
любой оставшейся минутой
к разлуке с волей будь готов.
Всю ночь, не умолкая,
врали, при свете трепетных свечей
и вслед огням закатным гнали
к зарницам завтрашних лучей
веселый цокот звонкой мысли
от слога – к слогу, к звуку – звук
галопом, иноходью, рысью,
ушами поводя испуг.
С утра резиновое небо
давило ласточек к земле,
смыкало свод сырого склепа.
Пещерный лаз в глухой скале
сжимал сознанье сталактитом,
не оставляя ни глотка
пространства.
– Учащенный ритм,
как звук последнего звонка,
оповестит об окончаньи
не школьных лет, а лучших книг.
Закончит маятник качанье
и встанет. Тут последний миг,
как мячик, выпрыгнув из плена,
покажет с высоты, что тленно
лишь то, что выбираешь сам,
и нет предела небесам.
– Но как довериться свободе?!
Не испугаться пустоты?
Того, что нет тебя, и вроде
в пыли межзвездной есть и ты.
– Ты – шулер, образы – подмена
реальности, а рифмы – крап.
Ты, типа, знаешь, где ухаб,
где часовой обходит стену…
На самом деле все не так.
Земля прочна, и люди зрячи.
А ты, чтобы не слышать плача,
закрыл глаза и вжал кулак
в ушную раковину мозга,
ты всюду видишь или мрак,
или Содом с Гоморрой Босха.
Ты бредишь. Есть любовь и боль
души, запутавшейся в теле,
и ни одна, а много воль,
и каждая достойна цели
существованья на земле.
И в детях тоже есть отрада.
И в сладких гроздьях винограда.
И много белого в золе.
Твой поэтический угар
похож на блеянье овечье.
Что ж ищет племя человечье
в дурмане скрипок и гитар?
Третья петля