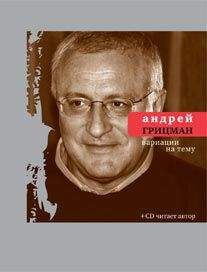Андрей Расторгуев - Русские истории
VIII
Разум и вера в ссоре, пока века
в Мёртвое море течёт Иордан-река.
В зеленоватой мути её пучин
отсвет небесной сути неразличим.
Даже в рубахе белой и наготе:
падает луч на тело – а в темноте…
Он погодя пробьётся – неявный свет,
если в душе найдётся небесный след,
если в сердечной стыни в солёный год
не расплескаешь ты иорданских вод,
где, огибая глыбы, глотая ил,
моет нам ноги рыба Эммануил.
Коктейл «Пасифик»
«Welcome to the Hotel California…»
Культовая песня 1970-х гг.I
Случай вышел вроде манника:
коль напáдала – не зря…
Тихий берег. Санта-Моника.
Середина января.
Крайний Запад. Калифорния.
Волны, солнце, неглиже…
Жаль, оделся не по форме я —
плавок нету в багаже.
Чумовое ощущение:
в январе – да в океан.
А на родине – Крещение:
люди рубят иордань,
достают грибы из погреба,
ставят хлебное вино…
По канону ли, апокрифу —
то Всевышнему одно,
лишь бы в новом поколении
не дожились до чумы…
И темнеют в отдалении
голливудские холмы.
II
У далёкого меридиана,
у черты примирения дат
странно на берегу океана
знать, что родина – там, где закат.
В озаренье, не менее странном,
уловить, как малóе дитя:
солнце падает за океаном,
неизменно за ним восходя.
И додумать легко и внезапно,
умеряя щенячий восторг:
если долго стремиться на запад —
непременно придёшь на восток.
И, душою живой не отчаясь,
догадаться в темнеющий час:
этот шарик, исправно вращаясь,
сам собою не вывезет нас.
III
Губами веду по краю
береговому —
как будто перебираю
дорогу к дому.
Сначала – прохлада бриза
и мятный ворс
до рисовых зёрен Фриско
и Форта Росс.
Чем ближе дыханье севера,
стон металла —
острее кристаллы сахара,
тон ментола,
а где ветерок бурана
по волоскам —
на краешке океана
отвесный скол.
Хоть малый – да не щербинка,
не брод коровий.
И на языке солинка —
воды ли, крови ль?
А дальше тепло и горько:
едва разжал —
и лавою льётся в горло
глубинный жар…
Напьёшься по горловину —
какая чаша
хотя бы наполовину
могла быть наша!
И почта в ответ на фотки
тотчас:
– Дон-дин!
Во Владивостоке сопки
один в один…
«То сажей мазнём, то мелом…»
Александру Кердану
То сажей мазнём, то мелом,
то на слово, то – на вкус…
Меж Чёрным лежит и Белым
давно корневая Русь.
Но, чуя иные краски,
расправились корни и —
метнулись аж до Аляски
и до Калифорнии.
Да снег оказался хрустким,
да краешек окаян.
А то бы назвали Русским
не море, а окиян.
И не заживает рана…
Да не засыхает плод:
никто теперь океана
нерусским не назовёт.
Игра в города
I
Попробуй из Питера вытянуть нервы Невы —
и город, заложенный ниже воды и травы,
объявится перед глазами не каменной глыбой,
а брошенной на берегу кистепёрою рыбой.
Ещё шевелятся проспектов его плавники,
похожие на разведённые пальцы руки,
но, словно слюдой заменили оконные стёкла,
навеки его чешуя островная поблёкла,
и невдалеке от соборов, холстов и «Крестов»
бесцветными жабрами движутся дуги мостов,
покуда, уже не подвластное нервным сигналам,
дыхание жизни уходит Обводным каналом…
Но что за причуда в бездомной моей голове
за тысячи вёрст от Невы вспоминать о Неве
и дух возвышать Мельпоменою и Аполлоном
в Екатеринбурге, к изящному слогу не склонном?
В заботах о жизни заводов, машин и монет
и вправду основы для слога изящного нет.
Но если душа занялась утончённым предметом —
она открывается неочевидным приметам
и сразу становится неисправимо чутка
к соприкосновениям воздуха и языка,
и вдруг осязает, что в русской забаве словами
иные взаправду бросаются и головами.
Такие в бумагу и в бок – всё едино пером,
и третьим – не в лавку за водкой, а Третьим Петром.
Пускай на помосте от собственной кровушки скользко,
и медленно в памяти меркнет Яицкое войско,
и медленно входит в живой человеческий мозг
железной занозою индустриальный Свердловск…
II
А стоит опять оживить отдалённое имя —
земные истоки и связи предстанут иными,
и вновь через дали натянется нитью живой,
что Екатерина Петру приходилась женой.
И выступит снова из-под многолетнего сплава
роднящая Катер и Питер недобрая слава,
и сколько холодные камни водой ни кропи —
не вымыть из их родословия царской крови…
Но если по крови и памяти – чем не столица?
Как будто столицею надобно только родиться
иль тихою сапою выйти из гиблых грязей
по воле ордынских татар и великих князей.
Не всё ли равно, что Исеть припадает к Тоболу?
Россия давно приучила себя к произволу.
Когда приглядеться, окажется и Петроград
с лица европеец, с изнанки – полуазиат…
И сам я таков в незапамятных дедах и бабках,
чей след обрывается в пронумерованных папках,
откуда и чуткому сердцу предстанет не вдруг
резной полукаменный старый Екатеринбург
с его огородами, банями и лошадями,
печными дымами, Сенной, Дровяной площадями,
гранильною фабрикой и паровозным гудком,
железным заводом и Маминым-Сибиряком.
Но век миновал, и отныне в любую погоду
на прежние улицы нет ему нового ходу,
хотя при желании сыщется с малым трудом
земля, где стоял да не выстоял дедовский дом.
На улицах этих теперь задирается к небу
стеклянными башнями полуварначеский Ебург.
А, впрочем, своё поминая житьё-бытиё,
весёлый уральский народ упирает на «Ё».
Хотя по весне зеленеют берёзы и пашни,
и ящерки греются на родоните и яшме,
уже до поры, пересказана для детворы,
состарилась в девках Хозяюшка Медной горы…
Но время покажет ещё, кто законченный урка.
И если уже не воротишь Екатеринбурга,
наверное, этот неписаный город нехай
походит лицом заодно на Москву и Шанхай,
тем более сросся хребтиною и сердцевиной
навеки и с той, и с другою земной половиной…
III
К железной дороге себя приучить нехитро.
По сути и стати она – продолженье метро:
еды запаси да поболе бульварного чтива
и, лежа на полке, без ропота и перерыва
на фоне унылой степи или горной цепи
почитывай, спи да закусывай – словом, терпи.
Наешься-наспишься – кругом погляди: у народа
от скуки дорожной найдутся доска и колода.
А коли продуться боишься – начни не спеша:
Москва – Алапаевск – Коломна – Анапа – Аша —
Актюбинск… Короче, от Астрахани до Якутска —
что видел, и слышал, и помнишь со школьного курса…
И если, когда доберёшься слегка одуревший,
тебе не поможет с дороги рассол огуречный —
домашняя ванна и даже гостиничный душ
немало в себя привели неприкаянных душ…
О том и турбин самолётных надсадное пенье
нудит неустанно: терпенье, терпенье, терпенье…
И это дорожное свойство впитаешь когда,
сойдутся в пространстве и времени все города —
как будто Россия, минуя столбы верстовые,
сплела воедино свои пояса часовые,
вобрав нищету и величие, мощь и рваньё
в округло-рычаще-свистящее имя своё.
В ней за сыновей успокоится только покойник.
Свистит соловей – непременно добавим «разбойник».
В охотку словами и смыслами наперебой
из пишущей братии нынче сыграет любой.
А я, бестолковый, опять без конца и без краю
собою самим в города и вокзалы играю…
IV
Покуда метели кипели в небесном котле,
однажды неделю терпели на Новой Земле.
Бывал-добирался да жил-поживал без прописки
в Архангельске, Вологде, Бийске и Новосибирске.
Легко-белопенно качала онежская зыбь,
бездонно-вселенно молчала байкальская глыбь.
Добавлю ещё в эту евроазийскую брагу
я Ригу и Хельсинки, Вильнюс, Варшаву и Прагу:
пускай не Россия, а всё не чужая земля —
история наша такие плетёт вензеля.
А сверху кто сведущ в родимых земных окоёмах —
ещё сыпанет лепестки вычегодских черёмух,
в сияние венских свечей и скрипичных ключей
плеснёт сыктывкарских и питерских белых ночей…
Ну, вот тебе два – докатились уже до концерта,
хотя исчерпали едва половину рецепта.
В глазастой моей погребушке чего только нет:
печорские уголь и сёмга, усинская нефть,
туманы Мурмана и птичий базар Кандалакши,
челябинский тракт в обрамлении розовой кашки,
ракиты в пыли новгородской и псковской земли,
где давние дремлют курганы и дышат кремли;
уральские хляби и харьюз опять же уральский,
якутский алмаз, свежеловленый омуль байкальский,
копчёная волжская стерлядь, казанский чак-чак…
Анапское солнце – и то потемнеет в очах.
От чёрного угля до белых ночей и медведей
отыщется всё под обложками энциклопедий.
Но что на бумаге роится, летит и плывёт,
без голоса, вкуса и запаха не оживёт.
Да если они и добавятся – дело пустое.
Здесь надобно чувство иное, хотя бы шестое,
чтоб этот случайный, невообразимый комок
с тобою сомкнулся и кровью твоею намок…
V